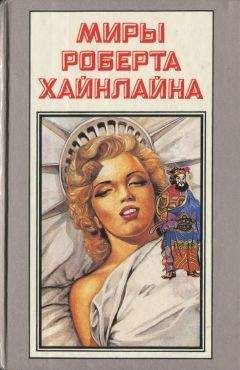Чудо — это событие, измеряемое мгновениями: мелькнувшие в земном материальном мире видения бога, на миг выступившая кровь на стигматах статуи Христа, пара слезинок, выкатившихся из невидящих глаз иконы девы Марии, крутящийся вихрь в небесах. Мое чудо силы длилось многие часы, но не могло продолжаться вечно. Я помню, как упал на колени, поднялся, двинулся вперед, снова упал, чуть не уронив Райю, решил, что мне надо отдохнуть — ради нее, а не ради себя, просто малость отдохнуть, чтобы восстановить силы, — и заснул.
* * *
Когда я проснулся, я горел в лихорадке.
А Райа была так же неподвижна и молчалива, как и прежде.
Дыхание было то еле уловимым, то более отчетливым. Сердце по-прежнему билось, но мне казалось, что ее пульс стал слабее, чем раньше.
Я не выключил фонарик, когда уснул. Теперь он горел тускло, умирая.
Проклиная собственную тупость, я вытащил запасной фонарик из кармана брюк, зажег его и спрятал гаснущий фонарь в карман.
Судя по моим наручным часам, было семь часов, и я решил, что сейчас семь вечера понедельника. Но все же, кто его знает, может, сейчас утро вторника. Мне трудно было определить, как долго я пробирался с Райей через шахты или сколько я проспал.
Я нашел для нас воду.
Я снова подхватил ее. После этого перерыва я желал, чтобы чудо продолжалось, и оно продолжалось. Однако сила, вливавшаяся в меня, была настолько слабее той, которую я испытывал вначале, что я решил, что бог куда-то отлучился, возложив заботу обо мне на кого-нибудь из младших ангелов, а тот не мог тягаться силенками с творцом. Моя способность блокировать боль и усталость ослабла. Я тяжело продвигался вперед с достойной восхищения безразличностью робота и прошел так немалый путь, но время от времени появлялась боль, такая сильная, что иногда я тихо стонал и пару раз даже вскрикнул. Все чаще боль в измученных мышцах и костях становилась явной, и мне приходилось блокировать это ощущение. Райа больше не казалась мне легкой, как кукла, и порой я готов был поклясться, что она весит тысячу фунтов.
Я миновал собачий скелет. Я постоянно оглядывался на него с неловким чувством — мой воспаленный лихорадкой мозг переполняли образы, навеянные этой кучей собачьих костей, преследующие меня.
То приходя в чувство, то снова впадая в беспамятство, точно мотылек, порхающий между пламенем и темнотой, я постоянно находился в состоянии, которое до чертиков пугало меня. Не один раз, выйдя из внутренней тьмы, я обнаруживал, что стою на коленях над Райей и неудержимо всхлипываю. Каждый раз мне казалось, что она мертва, но каждый раз я нащупывал пульс — пусть нитевидный, но все же пульс. Порой я приходил в себя и понимал, что, бредя с Райей на руках, я пропустил белую стрелу и прошел пару сотен футов, если не больше, не по тому коридору. Следовательно, приходилось возвращаться и искать правильный путь в лабиринте. Порой я просыпался, бормоча и захлебываясь, лицом в луже, из которой пил.
Я был в жару. Горел. Это была сухая, иссушающая жара, и я чувствовал себя таким же, каким был Скользкий Эдди в Джибтауне, — как древний пергамент, как пески Египта, скрипящие и безводные.
Какое-то время я то и дело поглядывал на часы, но мало-помалу перестал обращать на них внимание. Это не приносило мне ни пользы, ни успокоения. Я не мог сказать, к какому времени суток относятся показания часов, не знал, утро сейчас или вечер, ночь или полдень. Я не знал даже, какой сейчас день, хотя и решил, что, должно быть, вечер понедельника либо утро вторника.
Спотыкаясь, прошел я мимо покрытой ржавчиной кучи давно заброшенного горняцкого оборудования, которое волею случая образовало грубую, неведомую фигуру с рогатой головой, утыканной шипами грудью и острым позвоночником. Я был почти уверен, что ее заржавевшая голова повернулась, когда я миновал ее, что железный рот приоткрылся, а одна рука пошевелилась. Много позже, в других туннелях, мне показалось, что я слышу, как она идет за мной, продвигаясь с огромным терпением, клацаньем и скрежетом, не в состоянии тягаться с моим темпом, но уверенная, что догонит меня благодаря одной лишь настойчивости — и скорее всего так и случилось бы, потому что моя скорость неуклонно снижалась.
Я не всегда отдавал себе отчет, когда бодрствую, а когда грежу. Порой, неся, поднимая или осторожно волоча Райю по узким проходам, я думал, что нахожусь в кошмарном сне и что все будет нормально в тот самый миг, как я проснусь. Но, разумеется, я уже бодрствовал и жил в этом кошмаре.
Из света сознания во мрак бесчувствия — мотаясь, как мотылек, между двумя этими состояниями, я неуклонно слабел, в голове мутилось, жар усиливался. Я просыпался, и оказывалось, что я сижу у стены туннеля, держа Райю на руках и обливаясь потом. Волосы прилипли к голове, глаза разъедали соленые ручейки, стекавшие по лбу и вискам. Пот сочился со лба, с носа, с ушей, с подбородка. Казалось, я искупался прямо в одежде. Мне было жарче, чем когда я лежал на пляже во Флориде, но жара шла только изнутри. Внутри меня находилась топка, пышущее жаром солнце, запертое в грудной клетке.
Когда я пришел в чувство в следующий раз, я все так же был в жару, в невыносимом жару, и в то же время неудержимо трясся, мерз и горел одновременно. Пот был почти закипающим, когда вырывался наружу, но, попав на кожу, мгновенно заледеневал.
Я старался не думать о своем состоянии, пытался сфокусироваться на Райе и вновь обрести чудесную силу и выносливость, которые утратил. Осматривая ее, я больше не мог отыскать пульс ни в висках, ни на шее, ни на запястьях. Ее кожа казалась холоднее, чем была раньше. Когда я торопливо поднял ей веко, мне показалось, что с глазом произошло какое-то изменение, там была ужасная пустота.
— О нет, — вырвалось у меня, и я снова начал щупать пульс. — Нет, Райа, нет, пожалуйста, нет, — но все так же не мог обнаружить сердцебиения. — Черт побери, нет!
Я прижал ее к себе, обнял как можно крепче, как будто мог помешать Смерти вырвать ее из моих объятий. Я укачивал ее, как ребенка, напевал ей, говорил ей, что с ней все будет в порядке, все будет хорошо, что мы снова будем валяться рядом на пляже, что мы снова будем заниматься любовью и смеяться, что мы будем вместе очень и очень долго.
Я вспомнил о необычной способности моей матери смешивать различные травы в целебные отвары и припарки. Те же самые травы не обладали медицинскими свойствами, когда их смешивали другие. Исцеляющая сила была в самой маме, а не в истолченных листьях, коре, плодах, корнях и цветах, с которыми она работала. Все мы в семействе Станфеуссов обладали каким-либо особым даром, странные хромосомы вплетались там и тут в наши генетические цепочки. Если моя мать могла исцелять, почему, черт возьми, не могу сделать это и я? Почему на мне лежало проклятие Сумеречного Взгляда, если бог мог так же запросто благословить меня исцеляющими руками? Почему я обречен лишь на то, чтобы видеть гоблинов и надвигающуюся опасность, образы смерти и катастроф? Если моя мать могла лечить, почему не могу я? И поскольку я, совершенно очевидно, был самым одаренным в семье Станфеуссов, почему я не могу исцелять больных даже лучше, чем могла мама?