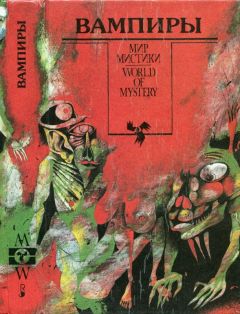Малаец самым решительным образом загородил ему дорогу:
— Нельзя!
— Там кто-нибудь есть?
— Нельзя!
— Сеанс уже начался? — хитрил Зенон.
— Нельзя! — упрямо повторял тот, загораживая собою дверь.
«Какие-нибудь спиритические упражнения», — презрительно подумал Зенон и отправился в город.
«А может быть, опять бичеванье? Может, и она там?» Молния воспоминаний прорезала его мозг, воссоздавая ряд отвратительных картин.
«Безумно даже подозревать что-либо подобное!»
Он долго блуждал по крикливому омуту города, из какой-то бесконечной дали глядя на стены и человеческие лица и как бы прощаясь с ними навсегда. Он чувствовал себя далеким от всех этих дел и интересов, ради которых жили и умирали все эти бесчисленные толпы, — таким бесконечно далеким, что жизнь их казалась ему непонятным и чуждым миражом.
«Кто из нас галлюцинирует? Я или они?» — спрашивал он себя, силясь понять свое отношение к ним, но тогда всплывал в памяти образ Дэзи, и эти трезвые мысли рвались на части, и он снова проваливался во мглу неопределенных мечтаний и мучительной тоски. И снова шел среди толпы и крика, как загипнотизированный, делая автоматические привычные движения, бродил как живой труп среди непонятной пустоты и молчания. И только в каком-то унылом переулке глаза его, безжизненно скользя по всем предметам, невольно остановились на белой яркой вывеске:
«Здесь продаются русские папиросы».
Он несколько раз перечитал надпись, движимый каким-то смутным побуждением, вошел в магазин.
Старая еврейка в парике дремала за буфетом, куча оборванных ребятишек, пища, возилась на полу, а рядом в низкой и страшно грязной комнате стучали машины и десятка полтора людей, покачиваясь над работой, тянули какую-то заунывную песню.
Лишь только он вошел, его обдала волна такого затхлого, гнилого воздуха, что он с трудом выдавил из себя какое-то слово, после чего еврейка вскочила с места, машины затихли и все глаза устремились к нему.
— Вы из Варшавы? — нерешительно спросила еврейка, и ее худое лицо озарилось тихой радостью.
— Да, да, — отвечал он, смущенный тем, что его сейчас же окружили толпой и с любопытством рассматривали. Сразу заговорили все, наперерыв предлагая вопросы, поднялся шум, кто-то придвинул ему табурет, кто-то держал его шляпу, кто-то подавал воду, и со всех сторон к нему прикасались чьи-то пальцы и красные переутомленные глаза жадно впивались в него.
Он отвечал машинально; могучая волна воспоминаний залила его душу; в нем воскресали тени давних лет, промелькнули пережитые дни, какие-то мучительные видения умерших мгновений и эхо далекой родины.
«Где я нахожусь? Что здесь делают эти люди? Зачем?» — думал он, робко разглядывая окружающих; и нищета, глядевшая из каждого угла, с каждого лица, громко говорила ему, зачем и почему. Его охватило такое глубокое сострадание, что он пересилил свое отвращение к их грязи и лохмотьям и вступил с ними в длинный разговор. Они не жаловались, никого не обвиняли и не проклинали, но каждый из них несколькими тихими и неумелыми фразами рисовал перед ним длинный ряд страданий, обид, унижения, несправедливости — настоящий ад выброшенных за борт жизни людей. Зенон слушал все это как фантастическую сказку из «Тысячи и одной ночи», от которой волосы становились дыбом и душа сжималась от горького, жгучего стыда. Ему хотелось убежать, но он не мог пошевелиться: первый раз в жизни он заглянул на самое дно действительности и ужаснулся человеческой нищете.
— Ужасно, ужасно! — шептал он и отворачивался от их покрасневших глаз. Он заметил под столом маленькую девочку, которая била кулачонками свернутую из тряпок куклу и что-то ей грозно нашептывала.
— Что она там делает?
— Знаете, у нее голова немного слаба, — с усилием проговорила старуха.
— Это ваша дочь?
— Нет, нет!
Она подозрительно поглядела вокруг и стала шептать, как бы передавая тайну:
— Знаете, когда был погром в Кишиневе, убили ее отца, убили мать, убили всю семью, ей рассекли лицо, забрали весь товар и дом подожгли. Что тогда было, даже передать невозможно. Ее нашли под трупами еле живую. Девочка осталась сиротой, вот мы и взяли ее с собой. Но с этого времени она всего боится, а как увидит солдата, так сейчас же плачет, кричит и убегает. Очень боится. Рузя, поди сюда, Рузя, не бойся, этот господин тебя не обидит.
Девочка сопротивлялась, но старуха вытащила ее из-под стола и подвела к Зенону. Она дрожала и плакала, крупные слезы катились по ее бледному лицу, прорезанному кровавым рубцом, в голубых глазах под золотыми ресницами таился ужас. Зенон хотел погладить ее по рыжим вьющимся волосам, но она отчаянно закричала и убежала.
Зенон дольше не мог оставаться.
«И несмотря на все, они хотят еще жить», — размышлял он, возвращаясь домой, и долго не мог отделаться от неприятного впечатления, долго помнил это детское личико с кровавым рубцом, мутные, одичалые глаза и мученические, надорванные голоса нищих людей.
«Что там происходит?» — возвращался он мыслями к родине. Он старался отогнать их в глубину сознания, но они снова всплывали, снова подымались, как тоскливая, звучавшая все мучительнее мелодия.
Он остановился перед книжным шкафом и стал рассматривать заглавия польских книг, уже протянул было руку за каким-то томом, но тотчас отдернул ее.
— Нет, зачем воскрешать то, что погребено? Я умер для них, там уже никто не помнит, что я был когда-то среди них. Никто! — повторял он с грустью. — И я не помню ничего и никого, — убеждал он самого себя, но именно в это мгновение он помнил все…
— Ужасная страна и ужасные люди! — защищался он от тоски, просачивавшейся ему в сердце и сжимавшей его судорогой страдания. — И все это из-за этих евреев! — разозлился он. — Какого черта я к ним заходил! Глупая сентиментальность!
Только вечером, за обедом, он окончательно позабыл обо всем, утонув в огненных взглядах Дэзи. Она была молчалива и меланхолична, а Ба ежеминутно подползала к Зенону, клала голову на его колени и с любовью глядела на него зелеными зрачками.
— Сегодня я у Ба пользуюсь особенной симпатией.
— Она знает, кого следует наделять вниманием, — ответила Дэзи, наделяя его долгим и невидящим взглядом.
— Может быть, потому, что мы служим одной и той же госпоже, — тихо произнес он.
— Нет, но потому, что мы трое служим «единому».
Он не успел спросить, что значат эти слова: все уже подымались из-за стола, и Дэзи вместе со всеми двинулась к выходу.
И жизнь опять потекла по-прежнему. Дни проходили медленно и скучно, утра были сонные и туманные, полдни бледные, обессиленные и грустные, вечера лихорадочные и нервные, а ночи тянулись без конца… Хоровод позабытых мгновений, тысячи лиц, вещей и рассеявшихся мыслей, как в глубине зеркала, передвигались в мозгу Зенона, не способного ни на чем сосредоточиться; его глаза напряженно всматривались в таинственную, заколдованную даль ожидания.