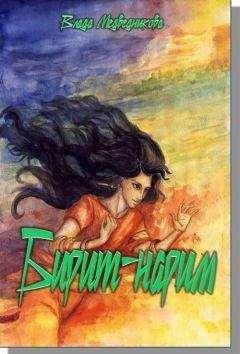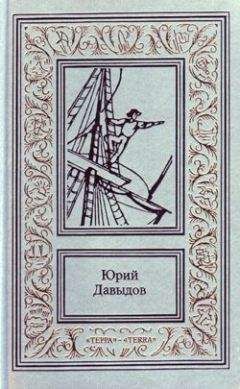Жарким было лето, и зной полуденных лучей радовал душу, — спать бы сейчас на крыше дома, не видеть снов и ни о чем не думать. Но город огромен, дела зовут, и приходится забыть о том, что просит сердце.
Что случилось с Баб-Илу, чем так манит он чужаков, что стекаются сюда, день ото дня все больше?.. Мысль эта дробилась, хрустела, как песок под ногами, а голова кружилась от бессонной ночи и от преддверия жажды. Кто на день на два, кто навсегда поселиться здесь хочет… и ясно теперь — нужно внимательно смотреть на приходящих, раз есть страны, где не знают законов…
С тех пор как приходил безумец миновало много дней, — луна постарела и умерла, народилась и вновь стала полной. Но теперь Лабарту внимательней следил за каждым явившимся в Баб-Илу, беседовал подолгу. Ни в ком не заметил ни следа безумия, окутывавшего чужака из Египта, — но и слов его забыть не мог.
«Я не демон, — говорил чужеземец. — Я сын бога. Люди поклоняются моему господину в храмах, и приносят в дар свою кровь, моля о благословении.»
Лабарту распрашивал экимму, побывавших в дальних странах, но все отвечали одно: «Египет — запретная страна. Можно войти туда, но нельзя выйти, и никто не знает, что случается там с пьющими кровь.»
От этих разговоров мир становился зыбким, голоса оживали в памяти, напоминали о прошлом.
Важен каждый твой шаг, — говорил Шебу, — каждый твой шаг на тропе охотника. И каждое движение в траве.
Улица повернула и оборвалась, — вывела к реке, оставила под открытым небом.
Лабарту замер, не в силах сдвинуться с места, — таким горячим был воздух, так ярко сверкали блики на воде. Высоко поднялся Евфрат, почти до краев дамбы, и лениво плыли по нему связанные в плоты стволы кедров. Их обгоняли юркие лодки, весла с плеском разбивали солнечную мозаику, а за ними, вдалеке, шел корабль. Приближался, виден был уже ясно, — торговое судно, тяжелогруженое, низко сидящее в воде, и парус цветной, чужеземный…
Тоска накатила, словно серый северный дождь, и Лабарту зажмурился на миг, глубоко вздохнул.
Когда-нибудь… увижу тот берег, откуда кедры привозят и пурпурную ткань… То море…
Но тут же открыл глаза и зашагал вдоль берега, и вскоре вышел на пристань.
Хоть и безжалостно палило солнце, здесь не утихала работа. Рабы разгружали лодки и вытаскивали плоты на берег, — то и дело окунались в воду, пытались хоть как-то спастись от жаркой духоты, — а надсмотрщик торопил, выкрикивал приказы. Воздух полон был запахом пота, мокрых бревен, горячей земли, свежей рыбы, бьющейся в высоких корзинах, — и сквозь это едва пробивался аромат дальних стран, тот, что всегда приносят с собой корабли.
Лабарту зашагал быстрее, не обращая внимания на крики и гомон, не глядя по сторонам, — видел уже того, к кому шел. И на мгновение, безумное, как палящее солнце над головой, показалось — узнал. И задуматься не успел, выкрикнул имя.
— Илку!
Но еще до того, как тот обернулся, Лабарту понял — ошибся.
Сколько лет прошло с тех пор, как Илку ушел из страны черноголовых? Много столетий… Сила Илку теперь сравнялась с моей, или превзошла ее…
Но этот был слишком слабым, — должно быть, не больше ста лет миновало с тех пор, как он обрел свободу.
Таким же был Илку, когда я пришел к нему, в Аккаде… И сила их — схожа.
Незнакомый экимму обернулся, встретился взглядом и поклонился, приветствуя. И ясно стало — конечно же, не похож он вовсе на Илку. Был он высок и статью походил на воина, но одет был как жрец, и на запястьях блестели амулеты. Борода и волосы были сбриты по обычаю младших служителей храмов, и черты лица выдавали его, — резкие, хищные, сразу видно, что род свой ведет из Ашшура.
— Мое имя Нур-Айя, — сказал он. — Илку мне брат, один из старших.
Лабарту назвался, и ассириец приветствовал его, а потом, обернулся, жестом подозвал кого-то.
Девушка, стоявшая поодаль, у кромки воды, подошла, поклонилась. И сперва показалось Лабарту, что она жертва, кровь для Нур-Айи, — но понял, это не так. Длинное покрывало ниспадало складками, — почти не различить под ним было ни лица, ни волос. Одежды простые, почти не украшены, — но сквозь ткань и сквозь кожу Лабарту видел кровь, сияющую ярче драгоценных камней. Жажда еще не пришла к нему, не обрушилась всей своей мощью, — и все же кровь этой девушки уже манила, струилась солнечным огнем.
Она не жертва ему, она…
— Это Амата, — сказал Нур-Айя. — Она узами обряда связана со мной.
Да, вот кто она ему…
Человек, прошедший мучительный ритал, и черпающий теперь юность из силы своего господина, а в ответ увеличивающий его могущество… Человек, по воле своей решивший навсегда связать свою жизнь с жизнью экимму — а на вид обычная женщина под покрывалом, вот только кровь ее сверкает, манит, и струится в воздухе вокруг привкус солнечной силы.
Шебу много раз повторял: «Опору демона легко узнать», — и это правда… И этот демон провел обряд, сумел, а Илку…
Не успел заслониться от воспоминаний, — они вспыхнули, заполонили душу. Илку, лежащий в колдовском круге, кирпичные стены подземелья, пропитанные запахом боли, гари и пепла.
Нур-Айя заговорил, и вернулся полуденный жар Баб-Илу. Лабарту заставил себя не думать о прошлом, но казалось — в горле застрял запах пепла и дым погибшего Аккаде.
— Хотели задержаться здесь ненадолго, — говорил Нур-Айя. — А потом отправиться дальше. Две луны или три хотел бы провести во Вратах Бога. Позволишь ли?
Лабарту кивнул. Сам того не заметив, обернулся к городу, — к горячим стенам и жаркой крови, к улицам, сетью разбегающихся от дворцов и храмов, к зову гонгов, к душной толчее базаров. Вот он, Баб-Илу, еще многих экимму может прокормить, и потому нет причины отказывать пришедшему.
К тому же Илку — брат ему…
— Пока соблюдаешь законы, — сказал Лабарту, — сколько захочешь можешь оставаться здесь.
Говоря это, все еще смотрел на тростниковые навесы, на людей спешащих по своим делам и прячущимся в тени. И внезапно ощутил чужую силу, среди водоворота жизней она вдруг стала ясной, — так среди путаницы следов на земле находят один верный след, и не теряют больше.
Кто-то могущественный и древний пришел в Баб-Илу, и сила его читалась издалека, ничто не могло заслонить ее.
Что случилось с городом, отчего все пьющие кровь устремились сюда?.. Я должен спешить.
Лабарту обернулся к Нур-Айе и повторил:
— Оставайся в Баб-Илу. Буду рад еще говорить с тобой, но не сейчас.
Потом простился и покинул пристань, — хотя желал остаться и расспросить ассирийца о многом. О дороге, которой пришел он, об обряде, связавшем его с человеком, и об Илку…
Ты хозяин города теперь, — голос матери, пришедший из воспоминаний, звучал твердо и ясно, отсекал мысли. — Сумей удержать его.
Чужая сила сияла, словно раскаленная головня в ночи, и Лабарту поспешил к ее истоку. И на полпути уже знал — путь ведет к его собственному дому. Пришедший, как велит закон, отыскал хозяина города, и ждет.
Ишби стоял на улице, на ступенях. И, как только Лабарту спустился к дому, Ишби отворил дверь, придержал ее, пропуская хозяина вперед. Случайный прохожий увидел бы лишь слугу, привествующего господина, — обычное дело. И слов Ишби никто, кроме Лабарту, не смог бы расслышать, — так тихо говорил тот.
— Чужие экимму, двое, пришли и ждут тебя во дворе.
Лабарту кивнул, прошел внутрь.
Гость поднялся со скамьи, шагнул навтречу. И на миг показалось, что оглушила чужая сила, и сознание помутилось от нее, смешалось настоящее с прошлым.
Эррензи…
Волосы цвета темной меди, взгляд, высокомерный и гордый, — все как в тот день, и лишь одежды нездешние, темные, словно тень давнего проклятия.
Столько лет прошло, но неужели посмел он…
Едва не зажмурился — сквозь три тысячелетия воспоминания вспыхнули, вместились в краткий миг, и оттого стали еще острее, еще ярче.
В Лагаш, в мой Лагаш он явился и пил кровь, не спросив дозволения. И я пришел говорить с ним…
Нашел чужака на берегу канала, близ дороги. Закатный свет кровью растекался по одежде и лицам, в зарослях тростника у воды вскрикивали птицы, а воздух казался прозрачным и звонким. Уверен был тогда, что придется сразиться, силой отстоять город и землю, отомстить за обиду.
И теперь, как тогда, он здесь…
Эррензи, из-за которого люди уничтожили пьющих кровь в земле меж двух рек.
Его имя должны вспоминать лишь с проклятиями, и он посмел вернуться сюда?! Думал, время скроет то, что сделал?
— Я запрещаю тебе пить кровь в Баб-Илу!
Слова вырвались сами, и оставили после себя горький привкус, — словно чистый воздух превратился в дым, тяжелый, саднящий. Дым степных костров и очагов в тесных землянках, дым догорающего погребального костра далеко на севере.
Посмел придти сюда…