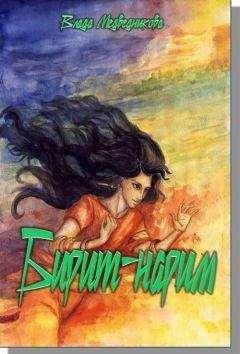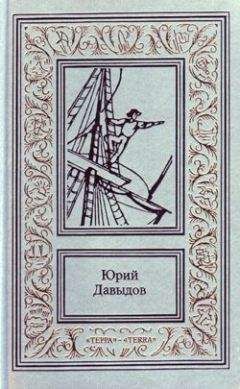Посмел придти сюда…
В первый миг Эррензи не ответил, не шелохнулся.
Лабарту не сводил глаз с давнего врага, ждал. Только сейчас заметил — нет рабов во дворе, видно, Ишби отослал их, чтобы не услышили люди разговора экимму. А сам Ишби остался возле ворот, и чувства его, спокойные и ровные всего пару мгновений назад, теперь окрасились страхом. Лабарту хотел обернуться к нему, хотел подбодрить хотя бы мыслью, но знал — нельзя сейчас. Сам себе казался натянутой тетивой, и стрелой, готовой с нее сорваться.
Тогда Эррензи был равен мне силой… теперь же…
Теперь он могуществом троекратно превосходил Лабарту, и безумием было бросать такому вызов. Эррензи молчал, не отводил взгляда. Глаза его, казалось, темнели, а сила надвигалась, грозила смять.
Я мог бы быть таким же сильным… Лабарту сжал зубы, сделал глубокий вдох. Какую беду он принес на этот раз? Ишби и Зу здесь, никто не защитит их, кроме меня. Пока этот город мой — Эррензи жить здесь не будет.
Эррензи обернулся и сказал что-то, — отрывисто и резко, на незнакомом языке. И только тут Лабарту понял, что давний враг не в одиночестве пришел в его дом.
Со скамьи поднялся демон, совсем юный, — лишь несколько лун прошло с тех пор, как его обратили.
Дитя сердца Эррензи… И во власти жажды…
Да, юного экимму била дрожь, тени залегли под глазами, волосы потускнели, а взгляд был устремлен в никуда. И все же ни словом не возразил своему хозяину, когда тот положил руку ему на плечо, повел к воротам.
Эррензи… всегда с обращенными приходит ко мне.
Разве не так же этот рыжеволосый ниппурец уводил прочь девушку в тот далекий день? Ту, из-за которой разгорелась ссора, ту, из-за которой они кричали друг на друга на берегу канала, не сдерживая ненависти и гнева?
Он ушел с ней из моего Лагаша… пришел в Урук и там оскорбил богов и людей. И обращенная его погибла, а после…
А после — резня, серебряные стрелы, заклятья и холодный огонь, подступающий медленно, все ближе.
— Постой! — Сам подивился, как удалось спокойно заговорить, и голос не сорвался. — Хорошо. Пусть дитя твоего сердца пьет кровь на улицах Баб-Илу.
Эррензи остановился у ворот, оглянулся, словно не веря. И во взгляде его, и в каждом движении Лабарту почудились сдерживаемый гнев и презрение.
— Но только сегодня. — Слова давались с трудом, и все же звучали ясно. — Больше никогда не приходи в мой город, Эррензи из Ниппура.
Глухо стукнули створки ворот, шаги затихли вдали.
Лабарту на миг зажмурился, потом перевел дыхание и запрокинул голову. Солнце сияло над головой, не миновал еще самый жаркий час, — тихо было кругом.
Ишби, до того стоявший возле входа, сорвался с места, подбежал.
— Я не знал, что это Эррензи! — сказал он. — Лишь видел — чужак, а имени…
Лабарту взял его за плечи, заглянул глаза. Страх все еще горел в Ишби, бился в его сердце.
— Я сумею защитить вас, — проговорил Лабарту. Слова жгли горло, не давали дышать. — Тебя и твою сестру, сумею защитить, смогу.
Ишби опустил взгляд, кивнул и ничего не сказал в ответ.
4.
Сестра слушала невнимательно, словно пересказывал он не важные вести, а сплетни рабов и прохожих на рынке. Поэтому он замолкал то и дело, и тогда Зу поднимала взгляд, улыбалась чуть приметно и кивала, словно говоря: «Продолжай, я жду». Слушая, она не сидела праздно — выплетала из косы жемчужные нити, причудливые и длинные. Ишби не мог припомнить, видел ли он это украшение на ней прежде, а запах благовоний, пропитавший ее волосы, не похож был на воскурения, дымившиеся по вечерам на домашнем алтаре.
Так часто уходит она, и так надолго…
С самых первых дней Зу и не думала следовать за хозяином по пятам, не печалилась, когда он скрывался за воротами, и не радовалась его возвращению. Ишби не мог понять, как такое возможно, — отчего ее не тянет к хозяину неодолимая сила? Ведь Зу в самом начале новой жизни, отчего же так легко переносит разлуку с Лабарту?
Он спрашивал об этом сестру, но она только смеялась в ответ. Спрашивал хозяина — и Лабарту пытался объяснить, сбивчиво и долго, а потом сказал со вздохом: «Впервые со мной такое».
Сперва Зу просила Ишби сопровождать ее. Они бродили по улицам Баб-Илу, заходили в храмы, блуждали среди торговых рядов… Ишби рассказывал про город, горячий и прекрасный, перечислял названия улиц, показывал чужеземцев, привозящих свои товары и своих богов. Ему было радостно смотреть на город заново, видеть его таким, как видит Зу, вновь чувствовать изумление и любопытство.
Затем Зу стала уходить одна. Сперва ненадолго — на час или два. Но с каждым днем все дольше становились ее прогулки, и всегда она выбирала время, когда Лабарту не было дома.
— Значит, все верно про него говорят, — сказала Зу. Ее пальцы двигались плавно, сворачивали жемчужную нить, прятали в шкатулку. — Вот пришел его враг, и Лабарту отпустил его? И этот Эррензи, ты говоришь, не только ему враг, но и всем экимму? Как можно было отпустить его?
Ишби опустил взгляд.
Он плохо запомнил разговор, помнил лишь обжигающие чувства хозяина и силу Эррензи — похожую на силу Лабарту, но куда мощнее. Эта сила возвышалась стеной, отсекала воздух.
— Ты же знаешь, Лабарту не так силен, как мог бы быть, — тихо проговорил Ишби. — Если бы он не смог победить…
— Но достаточно сильный, чтобы стать хозяином Баб-Илу? — усмехнулась Зу и захлопнула крышку шкатулки. — Разве хозяин города не может позвать на помощь всех экимму, здесь живущих? В чем тогда его власть?
Слова ее были такими непривычными и жесткими, словно не Зу их произнесла, а кто-то незнакомый завладел ее голосом. Ишби молчал, и тишина становилась все дольше, в нее проникали голоса рабов за стеной, шорох занавесей вдалеке, звук шагов.
Ишби сделал глубокий вдох и встретился взглядом с сестрой.
— Совсем недавно ты стала экимму, Зу, — сказал он, — а уже знаешь, в чем власть хозяина города? С кем ты говоришь об этом, к кому ты ходишь?
Зу засмеялась, прижала палец к его губам, остановила слова. А когда заговорила, ее голос вновь стал теплым и текучим, как воды реки.
— Зачем тебе знать это? Разве есть кому-то до этого дело?
И верно… Разве есть Лабарту дело до нее? Он уходит, оставляя ее одну, и, возвращаясь, не спрашивает ни о чем…
Ишби закрыл глаза и кивнул.
5.
Никогда прежде Лабарту не приходил в новый храм Сина — выстроенный недавно на другом берегу реки, возле ворот. Но Нур-Айя, брат Илку, назвал этот храм своим пристанищем, — и потому Лабарту отправился туда.
Уходящее солнце окрашивало стены зиккурата алым, и на ступени ложились изломанные тени. С вершины лестницы была видна река, корабли у причалов, и первые огоньки, трепещущие по берегам и в лабиринте улиц, — там, внизу уже сгустились сумерки, померк закатный свет.
У дверной завесы стоял жрец в длинных белых одеждах, почти беззвучно читал слова гимна. Трое других, помладше, принимали подношения, складывали в высокие корзины и уносили в глубь храма. Лабарту отдал им лепешки и сладкие финики, привычным жестом зачерпнул дым из курильницы у входа, и вошел в святилище.
В эту ночь, как и каждый месяц, тонкий серп луны рождался вновь, — и потому служба в храме началась сегодня рано. Тут не было тесно, как случается в дни великих праздников, но все же людей толпилось немало. Жизнь их стремительными искрами вспыхивала, звала, — и от того кружилась голова, путались мысли.
Я слишком устал… мне нужна кровь.
Нур-Айя был где-то рядом, и Лабарту невольно искал его среди слуг бога. Но не находил ни среди жрецов поющих восхваления, ни среди тех, что окружали алтарь, ставили чаши с чистой водой и поднимали сосуды с воскурениями. Изваяние Сина возвышалось позади жертвенника, белое, почти лишенное цвета, — лишь золотой скипетр сиял в руке да чернели провалы глаз. Звуки сливались в единый поток: мелодия славословий, мерные удары гонга, звон колокольчиков и нестройный гул людских голосов, — одни повторяли слова гимнов, другие молились, просили…
Кто-то легко прикоснулся к плечу, и Лабарту обернулся. Девушка стояла рядом и хотя скрывала ее накидка, разве можно не узнать? Ее выдавало ослепительное биение крови в запястьях и отзвук силы, какой не бывает у людей.
Та, что связана обрядом с Нур-Айей и служит ему… Амата.
— Если ищешь встречи с моим господином, — сказала она, — отведу тебя к нему.
Они дождались конца первого жертвоприношения и покинули святилище. Воздух снаружи показался необычно свежим, и аромат воскурений, пропитавший одежду и волосы, теперь стал приторным, тяжелым.
Амата устремилась вниз по ступеням. Не говоря ни слова и не оборачиваясь, спешила, придерживая накидку. Лабарту шел за ней, оставая на полшага, и не пытался нарушить молчание, — на душе по-прежнему тяжело было и смутно.