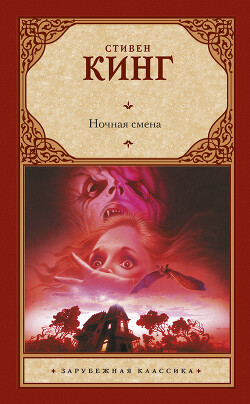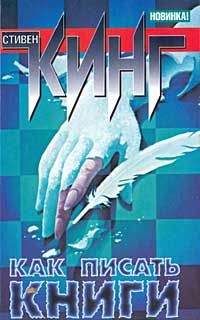Шел шестнадцатый день полета – мы ели консервы, играли в карты, успели простудиться и выздороветь – с технической точки зрения все было тип-топ. На третий день у нас накрылся конденсатор влаги, мы перешли на запасной – и все, практически никаких проблем до самого возвращения на Землю. Мы наблюдали, как Венера в иллюминаторе вырастала от яркой точки до белесого хрустального шара, обменивались шутками с ЦУПом, слушали записи Вагнера и «битлов», контролировали результаты экспериментов: от измерения солнечного ветра до навигации в глубоком космосе. Нам пришлось дважды микроскопически корректировать курс, а на девятый день полета Кори выбрался в открытый космос и пинал УНА, пока она не соизволила раскрыться. Больше ничего из ряда вон выходящего.
– УНА? – переспросил Ричард. – Что это?
– Неудачный эксперимент. Так мы в НАСА называли Узконаправленную Антенну – она передавала число «Пи» высокочастотными импульсами всем, кто захотел бы услышать.
Я потер руки об штаны, но это не помогло. Наоборот, стало хуже.
– Идея та же, что и с радиотелескопом в Западной Виргинии – читал, наверное, – она «слушает» звезды. Только мы, вместо приема, передавали сигнал на Юпитер, Сатурн, Уран. Если там и была какая-то разумная жизнь, то как раз в это время она крепко дрыхла.
– В космос выходил только Кори?
– Да. И если он занес внутрь какую-то межзвездную чуму, телеметрия этого не показала.
– И все же…
– Уже не важно, – бросил я раздраженно. – Важно, что происходит здесь и сейчас. Ричард, вчера они убили мальчонку. Зрелище было не из приятных – как и ощущения. Его голова… она взорвалась. Как если бы кто-то выскреб из черепа его мозги и положил вместо них гранату.
– Продолжай.
Я усмехнулся:
– Что еще рассказать? Мы перешли на околопланетную орбиту с сильным эксцентриситетом, от трехсот двадцати до семидесяти шести миль – и это только на первом витке, дальше апогей стал еще больше, а перигей уменьшился. Можно было сделать не больше четырех витков, мы пошли на максимум. Отлично рассмотрели планету, сделали около шести сотен снимков и собрали бог знает сколько видеоматериалов.
Облачный покров Венеры состоял – в равных частях – из метана, аммиака, пыли и разного летающего дерьма. Вся планета была похожа на Большой Каньон в аэродинамической трубе. Кори посчитал, что у поверхности скорость ветра достигает шестисот миль в час. Посланный вниз зонд бибикал всю дорогу, пока не издал громкий треск и не замолк навсегда. Мы не видели растительности, вообще никаких признаков жизни. Спектроскоп выявил жалкие крохи ценных минералов. Вот вам и Венера. И все бы ничего – только она меня пугала. Мы словно вращались вокруг дома с привидениями в окружении темного вакуума. Я знаю, как это ненаучно звучит, но у меня кишки сводило от страха, пока мы не убрались оттуда. Думаю, если бы двигатель не сработал, я бы перерезал себе глотку. Ничего общего с Луной – та просто пустынная и кажется стерильной. Но то, что мы видели на Венере, не похоже ни на что из того, с чем мы раньше сталкивались. Может, тут дело в облачном покрове, не знаю. Венера похожа на объеденный до кости череп.
На обратном пути мы узнали, что сенат проголосовал за двукратное сокращение бюджета космических программ. Кори сказал что-то вроде: «Арти, похоже, мы снова займемся запуском спутников». А я был почти рад. Может, нам и впрямь не место в космосе.
И вот двенадцать дней спустя Кори был мертв, а я стал калекой. Проблемы начались при сходе с земной орбиты. Парашют сработал нештатно. И смех и грех: мы больше месяца провели в космосе, забрались дальше, чем кто-либо за всю историю человечества, а все пошло прахом из-за того, что какой-то болван торопился на перерыв и перепутал стропы.
Приземление было жестким. Пилот одного из вертолетов потом рассказывал, что мы летели к земле, как гигантский ребенок, за которым тянулась плацента. При ударе я потерял сознание. Потом я узнал, что, когда меня подняли на борт «Портленда», команда даже не успела скатать красную дорожку, по которой мы должны были пройти. Я был весь в крови. Я был краснее, чем дорожка, по которой меня тащили в лазарет…
Два года я провел в военном госпитале в Бетесде. Мне дали орден, много денег и инвалидную коляску. На следующий год я переехал сюда. Люблю смотреть на взлетающие ракеты.
– Я знаю, – сказал Ричард. – Покажи свои руки.
– Нет, – резко ответил я. – Не могу их выпустить. Я же сказал.
– Прошло пять лет. Почему сейчас, Артур? Ты можешь объяснить?
– Я не знаю. Не знаю! Может, это такой инкубационный период. И кто вообще сказал, что я подцепил эту дрянь именно там? Я ведь мог заразиться и в Форт-Лодердейле, и даже на этом самом крыльце, почем мне знать?
Ричард вздохнул и окинул взглядом далекие волны, залитые краснотой заходящего солнца.
– Я очень стараюсь… Артур, мне не хотелось бы думать, что ты сходишь с ума.
– Если очень припрет, я покажу тебе руки, – с трудом выдавил я. – Но только если очень.
Ричард встал и оперся на трость. Он казался старым и немощным.
– Я приведу багги. Съездим, поищем могилу парнишки.
– Спасибо, Ричард.
Он побрел к разбитой грунтовой дороге, что вела к его хижине. Со своего крыльца я видел только ее крышу, остальное заслоняла Большая Дюна, протянувшаяся через всю косу. Небо над океаном приобрело противный фиолетовый оттенок, и откуда-то издалека донесся глухой рокот грозы.
Я не знал, как звали того мальчика, но часто видел, что он бродит по пляжу с ситом под мышкой. Дочерна загорелый, он носил только выцветшие джинсовые шорты. На другом конце косы расположен общественный пляж, и там, просеивая песок, предприимчивый молодой человек в удачный день может набрать до пяти долларов в мелких монетках. Иногда я махал ему рукой, и он отвечал мне тем же – два незнакомца, объединенные братством постоянных жителей этого побережья, в противоположность крикливым, швыряющимся деньгами туристам, приезжающим на своих «кадиллаках». Я так думаю, он жил в соседней деревеньке, состоявшей из нескольких домов и почты, в полумиле от моей хижины.
Когда он в тот день появился на пляже, я уже где-то с час неподвижно сидел на крыльце и смотрел. К тому моменту я уже снял повязки – пальцы чесались нестерпимо, но зуд немного утихал, если я позволял им смотреть их глазами.
Это чувство ни с чем не сравнимо: я был для них как приоткрытый портал, как окно в мир, который они ненавидели и которого боялись. Но хуже всего было то, что я тоже в этом участвовал. Представьте, что ваше сознание переместили в тело мухи и что муха смотрит на ваше лицо своей тысячей глаз. Так вы, может, поймете, почему я держал свои руки замотанными, даже если никто не мог их увидеть.
Это началось в Майами. У меня там было дело, встреча с неким Крессвеллом, следователем ВМС. Каждый год он проводит очередную проверку – какое-то время я имел доступ к самым важным секретам нашей космической программы. Не знаю, какие признаки сотрудничества с врагом он ищет – бегающие глаза или алую букву на лбу… И зачем мне продаваться? Пенсия у меня просто роскошная, почти неприлично большая.
Мы сидели с ним на балконе в его гостиничном номере, тянули коктейли и рассуждали о будущем американской космической программы. Приблизительно в четвертом часу мои пальцы начали чесаться. Как-то вдруг. Без всякого перехода, будто кто-то щелкнул выключателем. Я сказал об этом Крессвеллу.
– Ты никак влез в ядовитый плющ на этом своем поганом островке? – осклабился тот.
– На Каролине растут только карликовые пальмы, – ответил я. – Может, это семилетняя чесотка.
Я посмотрел на свои руки. Обычные, нормальные руки. Только чешутся.
Чуть позже я подписал все ту же стандартную форму («Я чистосердечно клянусь, что не получал, не передавал и не публиковал информации, которая могла бы…») и поехал домой. У меня старенький «форд», переделанный под ручное управление. Я люблю эту машинку – она дает мне ощущение независимости.