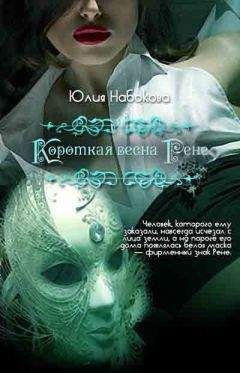Это была она. С узнаванием на Аркашу рухнула камнем резкая головная боль, тик вернулся, и он тут же подмигнул глазом. Она очаровательно улыбнулась, хитро подмигнула в ответ и, умильно растягивая слова, произнесла: «Котик, мы теперь родственники?»
Лиза была замужем второй раз. Первый брак получился детским и несерьёзным, однако, оставил ей очень серьёзную дочь Варвару. Она и не думала о второй попытке. Жила, припеваючи, сама себе «и швец, и жнец, и на дуде игрец». От кавалеров отбоя не было. Только все они ненадёжные, мотыльки – однодневки, крыльями побили, к ночи глянешь – нет ни одного. Зато друг у неё появился – парнишка молодой. Армию отслужить успел, только демобилизовался, к ним в цех пришёл работать. Они с Лизой сильно подружились. Делились своими проблемами. О личном поболтать не стеснялись. Да, и если помощь по дому нужна была, Лизка всегда могла на него рассчитывать. Только не рассчитывала, что мужем он её станет.
Лиза и не задумывалась – любовь это или нет. Любовь её, первая, пьяная всё время болтается, и алименты платить не спешит. Другого уже хотелось – надёжности и родства душ. И с ним – другом бывшим, а теперь мужем настоящим, она именно это и чувствовала. Конечно, разница в возрасте точила червоточины в Лизкиной душе. Шесть лет – это вам не год и не два. Но муж смеялся и говорил, что красивее и желаннее её на всём белом свете нет. Лиза на время успокаивалась, но потом всё-равно червячок сомнения высовывал голову.
Лиза никогда не думала, что красивая. Она себя и привлекательной-то с трудом бы назвала. С раннего возраста Лизавета Шмелёва являла собой сборище всевозможных комплексов и сомнений. В школе она была самая полная из девчонок, да вдобавок к этому носила на круглом лице большие очки в толстой роговой оправе. От постоянного волнения и желания выглядеть как можно лучше, Лиза сильно потела, и к концу недели на ненавистном коричневом школьном платье под мышками белели просоленные следы. Мальчики в классе никогда не звали её в кино или просто прогуляться по улице. Зато обожали дёргать за длинные косы, лупить портфелем по спине и дразнить «жиртресом» и «жужелицей». Косы, кстати, Лизка тоже ненавидела, потому что сама расчёсывать их по утрам ленилась. Пригладит расчёской сверху, заплетёт кое-как и бегом в школу. К концу недели на голове образовывались непролазные дебри из колтунов, которые после субботнего мытья волос мать безжалостно драла расчёской, да не одной. Зубья дешёвых пластмассовых изделий не могли пробить себе дорогу в лабиринте не прочёсанной гривы. Лизка верещала, но мать неумолимо раздирала колтуны и затрещины отпускала, чтоб впредь следила лучше. Затрещины помогали плохо, всё повторялось неделя за неделей. Пока, наконец, мать не согласилась отвести её в парикмахерскую. В те годы была жутко модной причёска «под Мирей Матье», которая, к слову, Лизке очень шла. Когда она утром вошла в класс, её сначала даже не узнали. А вытиравший доску Петька Мухин замер на месте с открытым ртом.
«Отомри!» – гордо бросила ему Лизавета и проплыла к парте.
С этого дня неуловимо изменилось не только отношение к ней в классе, но и сама Лизка. Она стала худеть. Есть иногда хотелось до чёртиков в глазах. Но она подходила к зеркалу и шипела на себя, сжав кулаки так, что ногти впивались в ладони: « Жиртрест, жужелица». Это действовало эффективно. А ещё был обруч – хула-хуп, на заводе сделанный отцом из алюминиевой трубы и утяжелённый внутри. Она крутила его по часу без перерыва. Как-то мать случайно вошла в комнату, где Лизавета переодевалась и увидела переливавшиеся всеми цветами радуги синяки на её талии и бёдрах. Разразился страшный скандал, а обруч был отнесён на помойку. Лизка выдраила всю квартиру до блеска и перегладила кучу белья.
Но Лизка была упряма, как ослица, и к окончанию школы стала, если и не трепетной ланью, то и не лошадью точно. Она самая первая в классе выскочила замуж, почти сразу после выпускного вечера. И через несколько месяцев родила Варвару. Но брак этот оказался недолгим.
«Эх, девка! – часто говорила ей, доведённой до отчаянья выходками вечно пьяного первого мужа, бабушка. – Ну, знать правильно, что народ в приметы верит. Говорят – зря не скажут».
«Отстань, ба! – отмахивалась от старухи Лизка. – И так тошно, ты ещё тут со своей ерундой!» – « Ба, ба! Жаба! Говорю тебе, Фома ты неверующая, плохая это примета!» – «Ну и чего я теперь-то сделать смогу? В церковь его не отнесёшь, спасибо дядюшке уроду и самодуру!»
Дело в том, когда Лизе исполнилось девять лет, она нашла большой серебряный крест. В то лето в их старом деревенском доме, доставшемся им по наследству совместно с родственниками, которых Лизка терпеть не могла (они все казались ей отвратительными толстыми жабами, а дядька и вовсе выглядел, как злой колдун из сказки), сделали ремонт.
Дом был сложен из красного кирпича, и стены его составляли около метра в ширину. Бабушка рассказывала – его уже лет двести, как построили, а цемент для кладки на яйцах куриных сделан был для особой прочности. Внутренние половые и потолочные перекрытия давно к тому времени прогнили, и жить в доме стало опасно. В одну из комнат просто не заходили, потому что в полу зиял провал вниз в глубокий подпол. Лизка даже мимо проходила на цыпочках и, задерживая дыхание, но иногда отваживалась, робко заглядывала в дверной проём и смотрела на закопчённые от лампад старые иконы, в большом количестве висевшие в углу.
«Бабушка, им там грустно, – теребила бабушку Лиза. – Почему вы их не достанете? Отвезём их домой, там и повесим!»
«Эх, Лизонька! – вздыхала бабушка. – Не буди лихо, пока оно тихо. Ты мала ещё, вот и помалкивай. А то услышат, заклюют».
Во время ремонта внутри дома всё сломали и положили новые полы и потолок. Старые прогнившие доски и мусор в огромном количестве долгое время лежали под окнами дома. Лиза, которую привезли на летние каникулы, обожала лазить по этим доскам и перебирать мусор. Бабушка пеняла ей, называла «курицей», но Лизка с непонятным самой упорством рылась в куче, её словно магнитом тянуло к ней. Казалось, весь хлам был изучен вдоль и поперёк, только он откуда-то взялся там – этот крест. Луч вышедшего из-за тучи солнца упал на кучу, и внезапно что-то сверкнуло в ней. В тот день гремело с самого раннего утра. Гроза осторожной большой кошкой кружила вокруг деревни, изредка порыкивая перекатами грома. Лизка до одури боялась грозы, поэтому гуляла возле дома, готовая в каждое мгновение при увеличившейся стихии сорваться с улицы и броситься в спасительную тишину огромной кладовой. Та представляла собой большое, полностью, кроме пола, кирпичное помещение в доме, с железной дверью, запиравшейся на огромный запор. Вместо окна крохотная бойница с фигурной решёткой и дверкой – ставенкой тоже из железа. Кладовая в давние времена служила подобием холодильника. Когда-то там, на крюки вешали туши забитых на еду животных и хранили другие продукты. Как только Лизка увидела вспышку света у кучи, первое, о чём она подумала: «Шаровая!» И застыла. Девочка твёрдо знала, что при встрече с шаровой молнией нельзя шевелиться. Про это природное явление бабушка рассказывала ей множество страшных историй. Грозы вообще вызывали у бабули священный трепет. Она считала их проявлением Божьей силы и гнева на земле, и каждый раз истово крестилась при вспышке молнии и раскатах грома. И эта вера была подкреплена её собственным опытом. Однажды, будучи ещё совсем детьми, они со старшей сестрой Матрёной своровали полмешка гороха. Времена тогда были очень голодные. Радостные девочки бежали по полю домой, мечтая о гороховой каше, что им мать наварит. Но неожиданно тучи налетели, началась гроза, и дождь полил, как будто ушат опрокинули с небес на землю. Посреди поля одинокий дуб стоял. Откуда он там взялся, никто не знал. Может специально кто-то жёлудь в землю воткнул, а может зверушка какая-нибудь обронила свою добычу. Вот сёстры под тем дубом от дождя и спрятались. Всё вокруг стало черным-черно, небо тучами заволокло. И вдруг, о чудо, между тучами просвет появился, всё шире и шире, сиявший небывалой голубизной. И девочки увидели Бога. Они заворожено пошли вперед навстречу видению, позабыв про украденный мешок, оставленный под деревом. В тот же миг раздался страшный грохот, и молния ударила прямо в дуб, от которого отошли дети. Мешок с горохом вспыхнул, трава, и сам дуб тоже горели, с треском разбрасывая искры. А видение тут же исчезло.