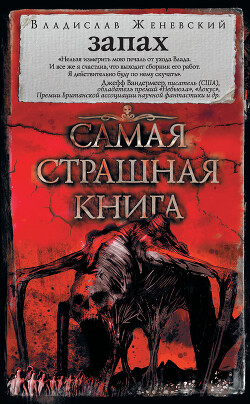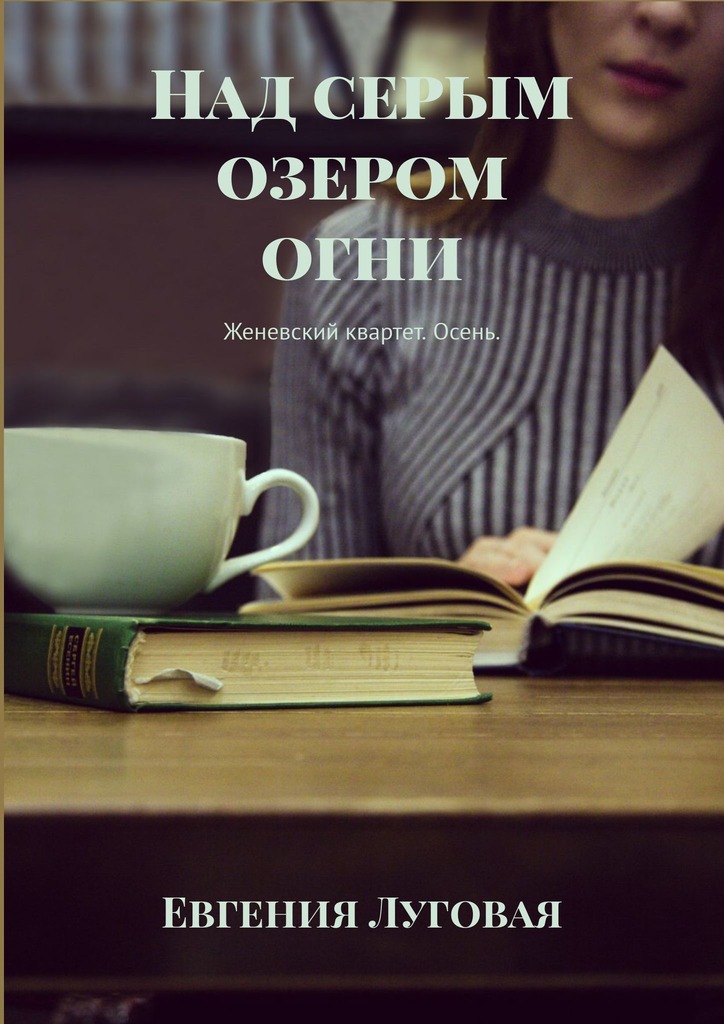Льет последний осенний дождь.
По асфальту перед церковью ползет человек. Вода льется с небес на его голую спину, смывая разводы крови. Сквозь кожу просвечивает рыжий огонек, будто плоть стала слюдой. Человек глухо мычит, временами поднимает голову, и в глазах отражается золото крестов.
…Он дополз до паперти и взбирается теперь по ступеням, как полураздавленная гусеница. Уткнувшись в храмовые двери, он протягивает руку, стучит. Но там, внутри, пусто и темно, и ему не открывают… Человек, хватаясь за дверную ручку, встает. Тонкие паучьи ножки свисают с его боков и колышутся в такт мерцанию чуть левее позвоночника.
Человек ударяет кулаком по медной табличке «СВЯТОСЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ». Еще раз. Еще. Он барабанит по двери, кричит и рыдает.
Рыжее пламя разгорается сильнее. Человек хватается за грудь, будто пытается что-то удержать… Из горла вырывается хрип, и с хлюпающим звуком сердце человека покидает грудную клетку…
По асфальту стучат коготки, потрескивают суставы. Тонкие ножки уносят горячий еще комок плоти куда-то во мрак. Скоро и звуки, и огонек теряются в дожде…
На церковном крыльце лежит ничком остывающий труп, и поднимать его некому.
Осень 2006
Она
1. Мать
Темнота пахла червями. Он так и видел, как те буравят его спину крохотными красными глазками. Холодная влага сочилась из сжатых кулачков, словно из губки. Но он знал, что если будет стоять на месте, то темнота раскроет свою беззубую пасть и проглотит его. Тогда он сам станет червем и будет поджидать кого-нибудь живого и теплого.
Мальчик зажмурил глаза и снова открыл их. Разницы не было.
А наверху грохотал из комнаты в комнату отец, стонали под чудовищными сапогами доски. В этой буре ребенок не слышал для себя ни пощады, ни сожаления и потому брел сейчас на ощупь, боязливо переставляя ножки по невидимой земле. Если можно найти во мраке самый черный угол, он найдет его и будет сидеть там, пока раскаты над головой не утихнут и не заскрипит, принимая отцовское тело, кровать.
Мальчик привык ждать – пряника с ярмарки, отпертой калитки, улыбки матери. Вместо розового петушка маячил перед ним пунцовый нос отца, калитка оставалась на запоре, мать валялась на лежанке безразличной куклой – а он все ждал, потому что иначе не выдержал бы. Весь подвал был уставлен бочками, и мальчик двигался вдоль одного из рядов, пытаясь нащупать просвет достаточно широкий, чтобы можно было сквозь него протиснуться. Пальцы скользили по пухлым, склизким деревянным бокам; ребенка колотило от отвращения… но страх не давал ему остановиться.
В конце концов он нашел подходящее место. Но щель была узка, из нее веяло сыростью, и он колебался.
Заскрипели петли, и белесый свет пролился на земляной пол подвала. Ошалев от ужаса, мальчик мышью юркнул в мокрую скважину и прибился к стене.
В пятне на полу шевелилась усатым насекомым тень. Отец пророкотал несколько страшных слов; маленький беглец сидел не шевелясь. Сердце его стучало в такт подрагивающим хвостам червей.
Наконец хлопнула крышка, через минуту – дверь, и все закончилось. Отец ушел и унес с собой ярость.
Оцепенение спало, и спиной мальчик почувствовал холод кладки. Его начало трясти: в этих судорожных движениях слились воедино озноб и страх. Он бился между бочками, как рыба в садке, до крови ударяясь головой, – крошечный, ничтожный. А в стене росла трещина – будто раскрывалось каменное веко, один взгляд из-под которого способен убить.
Но для одинокого создания, что трепыхалось в своем нечаянном укрытии, не существовало ничего, кроме тьмы.
«Мама!» – закричало оно, и стена лопнула, плюнула камнями и крошкой. Крупный осколок врезался во влажный лоб, испарина смешалась с кровью. Мальчик потерял сознание, и чернота свернулась вокруг него глухим колодцем…
Прошло немного времени. Он вдруг заворочался, стряхивая с себя обломки… и широко распахнул глаза. Болела ушибленная голова, но теперь как бы и не было ее; он целиком, с радостью, отдался новому ощущению, которое хлынуло в него с первым вдохом; казалось, ради него мальчик и пришел в это скользкое подземелье.
Запах! Чудный запах! В нем сплетались самые тонкие нити – спокойной старостью дышали высушенные травы, апрельский ветер пьянил, сам пьяный; мятно журчали в нем лесные ручейки, пряная земля открывала свои поры… Аромат этот щекотал ноздри – но места ему не хватало, и он заполнял легкие, а оттуда расходился по всем тропинкам тела; он баюкал, ласкал, мурлыкал.
Глаза мальчика сияли. Вот оно, совсем рядом, – то, чего он искал, запах, который может принадлежать только одному существу на свете.
Матери. Его настоящей матери.
Он обернулся.
За проломом открылся лаз. В конце его было отверстие, из которого шел мягкий, какой-то льняной, свет. Не замечая новых царапин, очарованный ребенок пополз по нему – мучительно медленно, будто чьи-то сильные руки держали его, не хотели отпускать. Но – шшш! – зашуршал под ногами песок, и он оказался в небольшой пещерке.
В стенах сверкали тысячи голубых кристалликов. Откуда-то сверху падали на них лучи, играя и мечась от одного к другому; даже песчаные прожилки между ними и те светились. Но в центре, в ослепительном ореоле, сидела она – что ему было до каких-то стекляшек?
Он превратился в живое, трепещущее зеркало и стоял теперь, отражая ее русые волосы, ясный лоб, снежную улыбку.
Но ее ладони раскрылись, и он подался вперед, к светлой королеве, благоухающей такой нужной ему любовью. Каждый шаг взметал мириады песчинок; каждый шаг длился год. Он забыл о черном подвале за спиной, об отце, о себе…
Сделан последний шаг, и вот она уже вливает в него тонкими пальцами запоздалую ласку…
Мальчик лишь смутно представлял себе, кто она. Знал лишь самое главное: она ему мать (женщину, которую он называл раньше этим именем, он отбросил легко, как куклу), и он не уйдет от нее ни за что в жизни…
И не ушел. Он просидел с ней целую вечность, и она пела ему колыбельные теплым, чуть суховатым голосом. В земле ширились провалы, и вот уже, задыхаясь от бессильной злобы, поползли в них муравьиными вереницами гнилые камни, за ними ломаным строем прошли серые доски, потом засосало стены, и последним багряным отсветом полыхнуло отцовское лицо.
А они все сидели и сидели. Он уснул у нее на коленях, и видел он сны, а потом…
…косматая лапа схватила его за волосы и потащила обратно в подвал, мимо бочек, навстречу хмурому осеннему дню. А белая королева съеживалась, удалялась, пока не остался от нее малюсенький солнечный зайчик, застрявший в его зрачках. И когда отец бил его, зайчик пробирался по извилистым тоннелям памяти, чтобы уснуть в тревожной глубине – и родиться когда-нибудь вздохом.
2. Друг
Таинственным летним утром Кнопка распахнул окно.
Это было цветное утро. Лазоревое небо, белопенные облака, изумрудная зелень – словом, все дышало ярким великолепием. Как поверить, что все это настоящее? Такое бывает только на картинках… Кнопке даже представился художник: вот он, большущий, таинственный, стоит один в предутренний час и гигантской кистью раскрашивает землю и небеса. Капля золотистой краски упала Кнопке на нос.
Ему не разрешали уходить без спросу, но сидеть в душном доме, дожидаясь, пока проснутся родители, не хотелось, как и всякому другому человеку в одиннадцать лет. Он тихонько оделся и прокрался на крыльцо.
Дом стоял посреди старого сада. Яблони и вишни уже отцвели. Кнопке они нравились и такими – задумчивыми, притихшими. По утрам здесь всегда царила прохлада. Ветерок овевал стволы и стебли, сквозь зеленую завесу там и сям пробивались медовые, теплые лучи. За забором ходили люди, гавкали собаки, но в саду все звуки становились приглушенными. Было до того красиво, что он и не знал даже, чего хочется больше: остаться на месте, чтобы, открыв рот, глазеть на тенистый мир, или лететь как легкий стриж по деревенским улицам, оставляя за собой удивленных стариков. Кнопка чувствовал, как в груди растет что-то буйное, горячее, сродни самому солнцу.