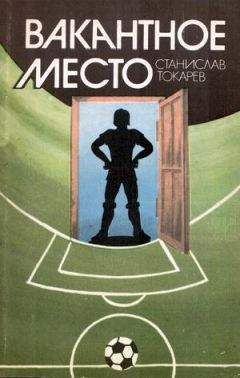— Старче, ты не прав, — авторитетно заявил Коля-Костя, накрывая руку Андрея своей, горячей и мокрой. — Знаешь, что сказал один мой друг одному своему другу, и, между нами, рекордсмену мира? «Старче, — он сказал, — если бы я, как ты, имел одну-единственную извилину в мозгу, я бы тоже был великим спортсменом». Компрене ву?
— Уи, же компран, — бойко подхватила Ирина.
Андрей попытался сбросить цепкую руку Коли-Кости и мрачно поинтересовался, не заехал ли рекордсмен в морду своему нахальному другу.
— Грубо, старче, это грубо. — Коля-Костя по-прежнему цеплялся за Андрея, и пульс его трепетал с лихорадочной заячьей частотой. — Ты пойми, не надо быть мыслителем. Надо знать, чего хочешь. И вся игра. Наш общий друг Павлик Соколов не слишком большой мыслитель, но ты, старче, перед ним щеночек, компрене ву?
Андрей почувствовал, что вот сейчас он отпечатает свой кулак тютелька в тютельку посередине веснушчатой переносицы Коли-Кости, и друзья Ирины, члены совета кафе, вынуждены будут оставить свой пост, чтобы препроводить его под мышки к двери. Дабы этого не произошло, он заслонился от вожделенной переносицы краешком бокала, залпом допил коктейль, взял в рот ломкую пластинку льда, и у него свело зубы.
Потом он посмотрел на Ирину и не узнал ее. Она вцепилась в край стола и выставила голые острые локти, и округлила глаза, и сжала рот так крепко и сердито, что он сделался белым комком с красной каймой помады. И весь этот смешной гнев адресовался несчастному Коле-Косте.
— Ты больно умный, — прошипела она. — Все вокруг дураки. Разговорился тут, мыслители, не мыслители. Топай отсюдова.
Коля-Костя сожалительно улыбнулся Андрею, пожал за неимением плеч шеей и отошел.
…У входа в метро Андрей распрощался с Ириной.
— Вы вот что, — сказала она. — Вы позвоните мне на работу. С десяти до пяти. Завтра позвоните, ладно?
— Стоит ли? — Он изобразил ироническую усмешку. — Разве я конкурент вашему другу?
Ее взгляд ничуть не замутился.
— Это вы про Павлика? И не думайте ничего, пожалуйста. Я просто не хотела вам говорить. Как раз сегодня мы с ним поссорились, и, наверное, на всю жизнь. Что делать, я люблю, когда меня уважают, а Павлик меня очень, очень оскорбил. Это я вам неправду сказала, что мне надо у него прибраться. просто у меня там остались кое-какие вещи. Так что даже не думайте, позвоните, и все. Я буду ждать.
Калныньша выписали из больницы. Он обстоятельно и деликатно попрощался за руку со своими соседями по палате, с врачами и сестрами, свернул бумажный кулек и сложил туда яблоки, которые накануне принесли ему ребята из его спортивной секции, и вышел на улицу.
На улице была неподвижная и плотная жара. У ворот стояли, прислонясь к забору, небритые мужчины в больничных пижамах с далеко выглядывающими из брюк бледными ногами. Они завистливо посмотрели на Калныньша, и один спросил, нет ли закурить. Калныньш не курил. Но чувство жалости и заботы по отношению к людям, которых он, здоровый и сильный, оставлял одних на том зеленом острове посреди города, где громко кричали только грачи, потребовало от него немедленно сделать для них что-нибудь важное и нужное.
— Курить не надо, — сказал он, — лучше это. Это витамины. — Он достал три яблока, крепко вытер их ладонью и протянул мужчинам.
Самый молодой сразу оглушительно захрустел, морщась и притопывая ногами от кислинки и удовольствия, а самый старший отдал этому молодому и свое яблоко и сказал Калныньшу:
— Веришь, земляк, душа горит без курева. Когда в другой раз придешь своих навещать, захватил бы «Беломорчику», а?
Они подумали, что он просто чей-то родственник. Вот какой был у него здоровый вид!
Потом он встретил собаку. Собака лежала под деревом, была она маленькая и рыжая, и когда он остановился возле нее, вежливо повозила в пыли хвостом.
— Ну, что ты здесь? — спросил Калныньш.
Собака молчала и жалобно улыбалась.
— А, — догадался Калныньш, — ты хочешь пить, не так ли? Ну, жди меня.
Киоск с газированной водой стоял чуть поодаль, на углу. Калныньш положил на прилавок рубль и попросил налить ему чистой, без сиропа. Продавщица шумно и презрительно прыснула в стакан пены и пузырьков и красными мокрыми пальцами отсчитала девяносто девять копеек медяками. Но когда долговязый гражданин, обидевший ее своей скупостью, вдобавок еще и понес куда-то казенный стакан, она решила, что он вообще жулик и стакан ему нужен известно для чего, а именно — для беленькой. Она заявила об этом на весьма высокой ноте, и Калныньш вынужден был отдать ей последнее яблоко. Он отдал, извинился, улыбнулся, и она улыбнулась ему в знак примирения и несколько приподняла скрещенными руками могучую вислую грудь, и шепнула, чтобы он мигом, так как милиционер за углом. При чем тут милиционер, Калныньш так и не понял. Собака отказалась пить из стакана, пришлось налить в ладонь, которую она щекотно вылизала, кося на Калныньша с тревогой и благодарностью.
Совершив все эти хорошие поступки, Калныньш отправился домой. Войдя в квартиру, он сразу понял, что приехала теща. Он это понял по тому торжественному, самодовлеющему порядку, который царил везде, начиная с прихожей. Как бы желая доказать дочери и зятю, что без нее они непременно зарастут грязью по уши, Прасковья Антоновна, едва появившись, вне зависимости от того, чья из жильцов была очередь убираться, закатывала грандиознейший тарарам с ведрами, тряпками и метлами, после чего полы застилались газетами, преимущественно свежими, нечитаными, и все обитатели квартиры виновато ходили по ним на цыпочках.
Во избежание скандала Калныньш разулся в прихожей и босиком зашлепал в комнату. Здесь купали сынишку. Корыто возвышалось на двух стульях, Клавдия поддерживала Дзинтарса за спинку и головку, а теща, огромная, распаренная, пошевеливая багровыми квадратными плечами (словно она, а не дочь была в свое время перворазрядницей по гребле), мяла и терла маленькое тело лопатоподобными ручищами, и вовсе было не понятно, как это у нее получалось, что Дзинтарс не захлебывался и не задыхался, а, наоборот, издавал тихое урчание, означавшее несказанное удовольствие.
— А, пришел, — сказала Клавдия.
— Тощий стал. Ты его, Клавка, медом корми, — сказала теща.
Айвар соскучился по сыну, однако к корыту его не допустили: в мужских услугах здесь не нуждались.
Потом женщины пили чай с привезенным Прасковьей Антоновной медом, пили долго, потели, вытирались махровыми полотенцами, а Айвар сидел у кроватки и смотрел, как ворочается, и дышит, и бежит, бежит, суча круглыми, нетоптаными пятками, бежит в свой пацаний сон его сын Дзинтарс. От чая Айвар отказался. «Не наш, не чаевник», — осуждающе пробасила теща и дунула в блюдце, произведя там существенный шторм.
— Ну чо, — спросила она, в шестой раз наливая кипяток в самую большую чашку хозяйства Калныньшей, — жилье вам дают ли?
Клавдия пожала плечами.
— Чо жмешься-то? Сколь мужик твой катать будет, катать, а все не выкатает? Вон дядь-Петин Женька на стройке-то года не проработал, а днями ордер обмывали. Ты жучи мужика-то, ты его медом не корми, а жучи, вон он у тебя какой бычина. А сколь вы тут без меня будете маяться?
Калныньш вздохнул. Он представил, какой беспокойной и громогласной станет жизнь в постоянном присутствии Прасковьи Антоновны, и слегка загрустил.
Клавдия сняла со стола и демонстративно грохнула об пол чайник. Сама она могла как угодно пилить мужа, но не терпела, чтобы это делал кто-либо другой.
— Нечего, — сказала она. — Что вы, мама, к нему привязались? На нем и так лица нет. Я сама пойду в жилуправление и перегрызу там всем что надо. А ему нечего. Ему покой нужен, а мне — мужчина в доме. Он старый уже, чтоб задницу об седло тереть. Пусть будет тренером, и хватит с него. А не дадут квартиру, и не надо, не пропадем.
Дальнейший спор поднялся на те эмоциональные и стилистические вершины, при которых Айвару было пора тихо идти на кухню. Здесь соседский сын Алеша, пользуясь отсутствием родителей, ел варенье из банки и пускал в окно голубей, свернутых из страниц тетради по арифметике. Айвар лизнул протянутую ему ложку и сделал такого голубя, что он, пламенея тройкой на хвосте, взвился в немыслимом пике и ринулся вниз, лихо крутя мертвые петли.
Голубь падал в зелень двора, где люди шли по делам, разгружали машину, вешали белье, трясли половики, играли в футбол и «классы», а Калныньш, следя глазами за уменьшающейся белой точкой и ероша рукой припавшую к нему Алешину голову, думал о том, как все-таки ему повезло в семейной жизни, какая у него душевная и все понимающая жена, и как он с его каменным здоровьем просто обязан сделать то, что он по всем статьям должен.
Ну и что же, что он упал и немного ушибся? Могучие предки дали ему такое тело, на котором все заживает буквально как на собаке. А этот мальчик с большими ушами, этот Ольшевский, он ни в чем не виноват, просто он мальчик и он играет в игрушки с жизнью, как, скажем, Алеша со своим бумажным голубем. Для него и спорт пока игрушка, развлечение в свободное от гуляний с девочками время. В действительности же спорт — это очень нелегкое, полное тягот и разочарований занятие. И оно важное и нужное, это занятие, потому что тысячам мужчин, смотрящим с трибун, скажем, на того же Айвара Калныньша, хочется быть сильными и мчаться, побеждая ветер, а тысячам женщин — целовать сильных и мчащихся.