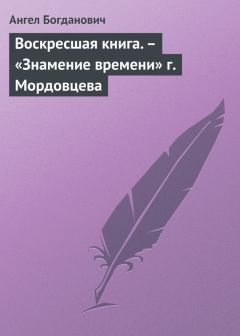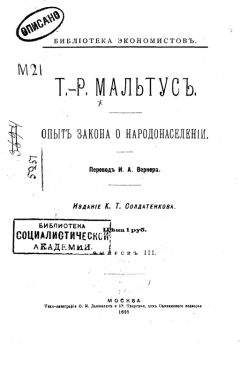Да отъ чего бы въ толь короткое время ета щука такъ вздорожала, скажетъ или подумаетъ кто нибудь изъ васъ мои честные читатели! — На сію загадку отвѣтъ вамъ самой простой и короткой. Что дорого, то и мило, или, что мило, то и дорого? Похоже на правду; однако здѣсь совсемъ не то. О! нѣтъ, нѣтъ, нимало не похоже, совсемъ не похоже! — А вотъ какъ развязывается путлявая эта пасма! — Единовластникъ Пошехонскій чрезъ повара своего, ему же имя было Хитиронъ, перемигнувшись съ Осташами жилъ и поживалъ съ ними въ любви, и довѣріи, согласно и братолюбно, за одно съ своимъ бариномъ. И такимъ-то манеромъ, или маневромъ — Щука отъ Осташковскихъ рыболововъ чрезъ знатнѣйшихъ обывателей Пошехонскихъ переходила къ Воеводѣ, а отъ Воеводы чрезъ повара Хитрона опять въ садки къ тѣмъ же хозяевамъ опять, въ рыбацкой нарочно сдѣланной поросту ея бадьѣ, уплывала, и другихъ щукъ въ трущобъ, то есть, въ самыя укромныя мѣста загоняла. "Какъ ни бытцъ, а безъ сцуцыны для кормильця нашего не льзя," была ихъ обыкновенная, остроумная приговорка. — Не благодарные ли ето души? — Вотъ прямо философское разсужденіе! — Не сыновнія ли радушныя это чувствія? — Не истинный ли ето отголосокъ ихъ Израильтянинскаго сердца! —
Расказываютъ, что вышеупомянутый Воевода Щука, нѣсколько лѣтъ до воеводства своего, жилъ въ Москвѣ; а для чего, это неизвѣстно. Догадываются, что онъ старую икру изъ кармановъ своихъ выкидываль, чтобъ накопить новой получше и побольше. Домочадцы его, или по тогдашнему халопи, которыхъ онъ привезъ съ собою въ Пошехонье, довольно на свой пай съ Бариномъ своимъ потолкались въ прихожихъ, и потоптали площадей Московскихъ. Они говорили о себѣ, что знаютъ всѣ входы и исходы, всѣ улицы и закоулки. Сіи краснобаи Пошехонцамъ, кои на ошосткахъ своихъ почти выросли и далѣе лѣсу ничего не видывали, росписали свою Москву матушку самыми лестными и поразительными красками, какъ впрочемъ и быть бы надлежало. И для чего не такъ? Ежели что правда, то правда. Но эти насмѣшники плуты, глухарямъ Пошехонскимъ напѣли много такого, чего и духомъ не бывало. Напримѣръ, Ивана Великаго подняли они выше мѣсяцы; Церквей нащитали ровно сорокъ сороковъ; и все вызолоченныя, какъ жаръ горятъ. Царь колоколъ и Царь пушка по ихъ словамъ были, какъ двѣ самыя большія Валдайскія горы; что палаты всё бѣлокаменныя высокія, а улицы широкія; что тамъ валенцы валяются по улицамъ, квасы все медовые, какъ сыта сладкіе, и поятъ де ими безданно, безпошлинно и проч. и проч. словомъ, небывалые. Туземцы такъ заслушались гостей своихъ, что съ позволенія сказать, хоть галка въ ротъ влети; а Ораторамъ то и на руку. Они отъ часу болѣе умудряются, или яснѣе (врутъ себѣ да повираютъ; благо есть кому слушать, — любопытство свойственно всѣмъ людямъ, не было чуждо и нашимъ Готтеннтотамъ. Закипѣла въ ихъ жилахъ кровь молодецкая, загорѣлись ретивы сердца. За нѣсколько предъ симъ первостатейные, но малоимущіе знатоки вкуса, думаю, не столько заботились о екипажѣ и убранствѣ, чтобы блеснуть въ первое Маія за Калинкинымъ; какъ добрыхъ нашихъ молодцовъ одолѣло, взяло нетерпѣніе повидать золоты верхи Москвы бѣлокаменной. "Акъ жо быцъ ребяци — надобецъ повидцецъ ентакова бисера, гутарили они между собою; станемцѣ ко гадацъ, акъ бы намкось сдѣлацьса, да не, дацъ промаху." Горою пѣхтурою прогуляться? Нѣтъ — это не дѣло. На коняхъ верхомъ прокататься? И ето что за выдумка? — Ѣхать съ какими нибудь продуктами, или съ избытками своихъ издѣлій, продать излишнее, и на вырученныя деньги закупить кое что нужное, а между тѣмъ себя показать, другихъ посмотрѣтъ, и съ Богомъ домой воротиться? Такая мысль не пришла имъ въ голову; да правду сказать, она имъ и не нужна была. Ибо Московская щелкоперая Щука, (сказывала пращуру бабушкиному дѣду прапращуру, одна лѣтъ въ сотенку съ походцомъ молодица) такъ старалась о чистотѣ, благоустройствѣ и славѣ Пошехонья, что чрезъ мѣсяцъ ея воеводствованія по всѣмъ обывательскимъ клѣтямъ, житницамъ хлѣвамъ и подъизбицамъ, все стало такъ гладко, такъ вычищено, прибрано, словно ладонь на прикащечьемъ гумнѣ, хоть яицомъ покати. Развѣ уже кто по чрезвычайной лѣности не выносилъ своего сору изъ дому, а пряталъ его гдѣ нибудь въ укромномъ мѣстѣ. Чего другаго, а неряхъ пожалуй сыщешь вдоволь во всѣ времена и вѣки. Однако же надобно сказать и то, что такихъ неопрятницъ при попечительной Щукѣ очень было немного.
Но о Щукѣ и неряхахъ на сей разъ довольно, коли не съ залишкомъ. "Какъ разтатдца съ родцимыми, какъ пустилца въ даль дальную, на чужу незнаму сторонуцку, безъ проводника, безъ вожатаго, разсуждали новопросвѣщенные Московскими выходцами любомудрцы, съѣхавшись налегкѣ парами къ старостинымъ воротамъ; идцицъ такъ идцицъ ушъ всѣмъ, молвилъ самъ, а нейцицъ такъ нейцицъ никому, сцобъ никому не было завидко." Разумную сію сентенцію не могло не одобрить премудрое собраніе; подтверждаютъ ее, только все какъ будто изъ подпалки. Ибо уже глубоко забрала добрыхъ молодцовъ охота молодецкая. Но на хотѣнье бываетъ и терпѣнье: и хочется и колется и набольшой не велитъ. Думаютъ, умудряются отъ бѣлой зари вплоть до сумерковъ; вмѣстилища разума трещатъ отъ напряженія въ нихъ содержимаго; но ничто не пособляетъ. И такъ, подъ исходъ отлагаютъ они опредѣлительное и конечное сего дѣла рѣшеніе до завтрея: утро вечера мудренѣе, говорилъ имъ бывалый и въ кольѣ и въ мяльѣ Угаръ — уже начинали было совѣтники наши пошаркивать ногами, наровя каждой, какъ бы ближе къ своимъ могучимъ щамъ; какъ вдругъ проглядываетъ красно солнышко, высовывается изъ окна теща старостина Ѳилатьевна, Лада и прорицалище Пошехонское, и возговоритъ имъ словеса сицевыя: "Охъ вы гой есте милые мои дѣтушки! по пустому вы по напрасному ломаете себѣ, крѣпкія головушки. Вы спросились бы прежде пожилыхъ людей — вы послухайте моего совѣту бабьева — вы взойдитеко на гой, гой, гой, ударяютъ гдѣ въ бирюль, люль, лголь, утѣшаютъ что Царя въ Москьѣ, Короля въ Литвѣ, старца въ кельѣ, младенца въ люлькѣ. Вы увидите какъ платичку на латочкѣ, Москву матушку золотны верхи". Сказавъ сіе пропала Ѳилатьевна, какъ молнія, слуховое окно хлопнуло. Загадочка сія бросилась въ носъ всему собранію, не исключая и самаго старосты. Но Ѳилатьевна для мила дружка зятюшка, недолго мучила отгадкою, развязала петлявую свою загадочку, кося, такъ сказать, вся сила замыкалась въ томъ, чтобы они смотрѣть Москву шли на колокольню. Получивъ толь радостное изъясненіе соколы наши ясные, разлетаются по своимъ гнѣздамъ, держа всякъ крѣпко накрѣпко въ своей памяти, какъ бы на утріе не опоздать предъ своею братьею. — И лишь только начала показываться провозвѣстница дня, сбѣгаются отовсюду къ колокольнѣ, словно на бѣгу ударившіеся объ закладъ, въ запуски. Тѣснятся, толкаются какъ сумашедшіе, давятъ другъ друга, лѣзутъ, приступаютъ; всякому хочется занять мѣстечко для себя получше и покомоднѣе, дабы насытить лютое свое желаніе. Но то удивительно, что изъ такого множества, ни одинъ человѣкъ не догадался забѣжать къ Церковному старостѣ за ключами, или позвать его самаго, чтобы онъ отперь имъ двери — прибѣжали, говорю, стоятъ, давятся, нажимаютъ, покрякиваютъ, но отойти отъ дверей никто не хочетъ; всякъ боится, чтобы не прозѣвать захваченнаго своего мѣста. Наконецъ кое какъ ключи достали; но до замка нѣтъ дотору. — Уже и замокъ отпертъ — да двери не отворяются; ибо ихъ только что припираютъ — ходоки наши отъ сильнаго затору или задору, бьются съ часъ времени и болѣе, но все на одномъ мѣстѣ. Подъ конецъ, входъ на колокольню открылся; ибо они силою своею дверь спугнули съ крючьевъ такъ, какъ птичку съ гнѣзда. И тогда то колокольня яко очарованіемъ нѣкіимъ, въ одинъ мигъ наполнилась нещетнымъ множествомъ Астрономовъ. Иные изъ нихъ на полночь, другіе на полдень, третьи на востокъ, четвертые на западъ, и въ верхъ на небо, и вънизъ на земь, пялятъ съ просонья свои глаза; но далѣе предѣловъ зрѣнія ничего не видятъ; только что небо сошлось съ лѣсомъ, но сіе имъ было не въ диковинку; ибо ето они видали и прежь сего. Чтожъ дѣлать? Ендакая бѣда, парень! Не ужели Ѳилатьевна станетъ обманывать, да и ковожъ еще? Старосту, своего зятя любимаго. Нѣтъ, этому нельзя статься. Шутить съ цѣлымъ міромъ не ловко; у eвo, знаешь, какая шея — такъ развѣ она сама какъ нибудь ошиблась въ умозрѣніи. Пусть будетъ такъ — по крайней мѣрѣ она подала хорошую замашку. Въ таковыхъ прореченіяхъ не надобно крѣпко къ словамъ привязываться, но иногда должно подразумѣвать и другое. Но лихо найти бы кончикъ, а до клубочка добраться ужъ можно. Со звонарничи не видко Москвы умствовали Ѳилатьевнисты, для радци тово, сцо іона не боль высока, ака бы іона была есцо повыше, топъ золотыя маковичи у насъ не увернулись. И взаболь ребяци, подхватилъ хватъ бывшій тогда съ перелому отъ воеводскаго угощенія на костыляхъ; а знай, цѣ ли ребяци — въ бору — на высокушѣ, есь такія лѣсины, ажно ужасно на нихъ поглядзѣцъ — ета звонарнича, (показуя на колокольну) имъ и въ дцѣтіоныши негодзитця." При сей остроумной его догадкѣ, вдругъ всѣ ур-а-а ур-а-а — воскликнули отъ радости почитай такъ, какъ поютъ черные лебеди, когда видятъ мучимаго на улицѣ ребятишками птенца своего. Теперь много и долго думать нечево. Хватъ намѣкнулъ, а тутъ ужъ и смѣкнули. Сговариваться нечево; не надобно ходить по домамъ и собирать подписки; всѣ охотники и всѣ готовы; не кличь кликать, всѣ въ сборѣ — забѣжали за топорами, да благословясь нутка улизывать на реченную высокушу въ запуски, одинъ дрѵгаго опередить стараясь. Долго-ли, коротколи такою выступью они шли, только пришли. Скоро то дискать, сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается — разгуливаютъ по высокутѣ, словно гончія, языкъ высуня, и куда одинъ туда всѣ за нимъ. Наконецъ выбираютъ они лѣсину самую высокую, елину стогодовалую, кудревастую. — Не такъ легко и проворно, лакомые до меду муравейники и боровики, взлѣзаютъ на бортъ, какъ наши Мишиньки да Михайловичи помахиваютъ на новообрѣтенную свою обсерваторію. Уже двадесять или тридесять мужей щастливѣйшихъ и любопытнѣйшихъ, яко легкіе сціуры, (векши) уцѣпившись за сучья, сидятъ на лѣсинѣ, подобно сычамъ во всѣ стороны поглядывая. Верхолазъ на самой макушкѣ, будто соловей на яблонной вѣшочкѣ, качается, только что не воспѣваетъ сладкихъ пѣсенокъ; онъ сидитъ ни живъ, ни мертвъ, кто говоритъ, отъ радости, что на етакую красу взабрался, а другіе, сирѣчь, кой попроще, думаютъ, отъ страху, что не зналъ какъ добраться не сломя шеи до сырой земли. Но это примѣчаніе не важно. "Шцо вишь, вопрошаютъ его нижшіе? Низги ребяци не видко, оприцъ конча свѣту, отвѣчаетъ онъ дрожащимъ и прерывающимся голосомъ." Верхолазу повѣрить не трудно; ибо и другіе не больше ею видятъ. "Сцо дзѣлать? — Ето всіо суцьіо провальноіо мѣшаецъ, а то какъбы не видзѣцъ, съ ентакой высоты? разсуждали они, вишъ какая изъ за-нихъ тцѣмень, словно въ подизбицѣ. Обрубимцяко робяша сучьіо поплотнѣе, такъ аось станецъ повидчѣе." Разсуждено, обдумано, сказано, сдѣлано. Да такъ и должно: Diu delibera, fac cito, [11] есть старинное мнѣніе — Вдругъ всѣ за топоры, сучья валятся, щепы летятъ, стукъ раздается. Что твоя кузнечная музыка. Жаль, что на етотъ разъ какого нибудь Пиѳагора не было. А для глазъ какое открылось сокровище! всего наглядѣлись и насмотрѣлись — но Верхолазъ первѣе всѣхъ натѣшилъ свою душиньку: уже онъ по проворству своему успѣлъ спрыгнуть на земь, и такъ разбахвалился какъ будто мыть на крупу надулся. Ибо не только глядѣть иль баяшь, да и дышать ужъ нижнимъ воздухомъ не хочетъ. — "Ендакая спесь напала на Агафоныця; акъ повидзѣлъ Москву, кричали съ досады между собою тѣ, коимъ не удалось взлѣсть на ель: ужъ на насова брата и взглянудцъ не поволитъ; а ось ребяци будзѣ и на насой улицѣ праздникъ." Бохвалъ, удальствомъ вторая особа по Агафонычѣ, подрубившій сучья, за кои Верхолазъ держался, слетѣлъ за нимъ второй; но и этотъ не меньше предводителя набрался Московской спеси; и потому былъ его не привѣтливѣе. За сими главными балансіорами соскакивали и другіе, по одному, по двое, и по трое вдругъ, кто лбомъ, кто затылкомъ, иной плашмя, другой навзничь, кто на камень, кто на пень, иной на лежащую братію, кому какъ случилось. или вздумалось. И хотя въ каждомъ изъ нихъ до послѣдняго Фалалеича, примѣтно было со стороны чванство и жеманство, только въ разныхъ степеняхъ, судя по степени возвышенія. — Бездѣлица вотъ кажется, а какъ можетъ испортить человѣка. Болѣе двухъ десятковъ удальцовъ, слазившихъ на ель, такъ загордились, что не захотѣли и домой пѣшкомъ идти; а другіе и совсѣмъ не глядѣли на свою братью: неси ихъ на рукахъ, иль вези на коняхъ; изволь съ ними пестоваться, какъ хочешь, а сами идти не изволятъ, ужъ будто и Богъ вѣсть, какъ устали да уломались; а тово не воображаютъ себѣ, что было бы еще кому съ ними возишься.