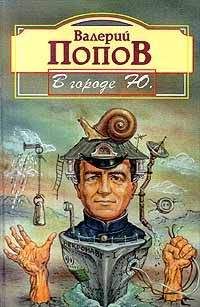Входим в кабинет с витражами: бывшая комната настоятеля монастыря. Навстречу поднимается Ромка — гладкий, вальяжный. Снисходительно обнимает меня, хлопает по спине — словно Пушкин в ссылке какого-нибудь заезжего Кюхельбекера. Смотрим друг на друга.
— Вот — бровь вчера сжег: электропилой кость пилил! — усмехается Ромка.
Да… жизнь!
— Тебя тут один клиент хочет видеть.
Геныч! Наконец-то!
Идем по коридорам, проходим стеклянную солнечную галерею, дальше — просторные залы, больных нет. Во Геныч устроился!
— …Что с ним?
— Да — обычная местная штука: слоновье яйцо!
— …Слоновье?
— Ну, да. Крохотная местная мошка, даже без крыльев, забирается в мошонку по струе и вьет в яйце гнездо. Предпочитает правое.
Геныч! Прости меня! Это ж я тебя сюда упек!
У высоких стеклянных ворот — охранники: в темных масках с узкими прорезями, не поймешь даже, местные или наши.
Ромка произносит гортанную фразу — и они отстраняются.
Геныч!..
С кресла тяжело поднимается Мбахву. Мы обнимаемся.
— А помнишь, как в общагу ходили,— улыбается он с натугой.— И ничего! А тут!.. Хочешь, покажу яйцо?
Выражаю нетерпеливое желание…
Да, курсантская дружба не ржавеет. Вспоминаем, кстати, одно посещение общаги «с вытекающими последствиями». Было дело!
Оба понимаем, что от общаги разговор пойдет к самому главному, но Мбахву начинает издалека:
— Ты знаешь, кто я?
— А хули не знать? Ты — царь!
— Нет, я не царь. Я блад.
— Кто?
— Блад!
Не совсем понял его, но больного царя переспрашивать неудобно.
— Почему? — вежливо спрашиваю.
— Потому что я поступил как блад! Знал, что ты Нелли любишь, но взял ее сюда! Политика, блад!.. Теперь она убежала от меня. Я знаю, где она… но не трогаю. Бладом работает!
— Слушай. Ты все говоришь: блад. Это что, английское слово?
— Нет. Это русское слово!
— А.
— Хочешь увидеть ее? Поехали!
Мы выходим через низкую дверку в грязный хозяйственный двор. Здесь стоит два тарантаса, такие, как возят туристов — сплошь в кисточках и бубенчиках. Лошадки, светлеющие от коричневого хребта к желтому паху, хватают из кучи длинную ярко-зеленую траву. На козлах сидят грязные темнокожие мальчишки.
И это всё! Тарантас, скрипнув, скособочивается под Мбахву — мы с Ромкой кое-как уравновешиваем его. Мбахву опускает бурнус на лицо — неофициальный выезд.
Задребезжав, трогаемся. На втором тарантасе — единственный охранник с узкой прорезью для глаз.
Мы враскачку катимся по узкой глинобитной улочке, и взгляд сзади прожигает мне спину — столько ненависти в нем!
Кто здесь может так ненавидеть меня? За что?..
Геныч!!
Я вскакиваю. Ромка мгновенно усаживает меня.
— Тихо ты! Он шуток не понимает!
Мы проваливаемся в яму и с трудом выползаем из нее.
Геныч! Я оборачиваюсь, но с опаской. Он сидит, как изваяние, поставив автомат на колено.
Мы выезжаем на набережную. Серое слепящее море. У всех причалов стоят огромные наши рудовозы, высотою до неба. Удивительная советская ханжеская привычка — называть огромные океанские корабли именами городков и поселков, никогда не видевших моря, с населением наверняка меньше, чем на этих кораблях! Воробьевск, Кратовск, Устюжна, Соть! Но сердце все равно сжимается.
Огромные краны гребут из вагонов руду, уносят в небо.
— Я блад! — снова с отчаянием произносит Мбахву, но сейчас он имеет в виду другое.
Едем. Гляжу по сторонам. За портом начинаются совсем жуткие улицы. Глинобитные мазанки. Дети в язвах кидаются с криками к повозке, хватают за обитые медью спицы, ямщик радостно бьет их кнутом.
На грязной площади останавливаемся.
— Все! Дальше не могу! — произносит Мбахву.— Давайте пешком!
Колесницы, звеня, разворачиваются и уезжают. Геныч с поднятым автоматом остается на улице, но не приближается ни на шаг. Безвольно, безуспешно машу ему рукой — и следуем дальше.
— Понял, где она живет? — говорит Ромка.— Я, конечно, пользую ее… по старой дружбе.
Я останавливаюсь… Что значит — пользую?.. Как врач или?..
— Здесь! — показывает Ромка.
Маленькая глинобитная хатка с отбитым углом: солома торчит из стены, сделанной из засохшего навоза. Двери нет! Только темный проем, прикрытый оборванной занавеской!
Я зажмуриваюсь. Вот и собралась опять наша команда! Но как!!
Я резко оборачиваюсь. Ненависть бьет из глаз Геныча — даже, кажется, расширяя прорезь!
— Геныч! — Я кидаюсь к нему.
— Стой! — кричит Ромка, но тормознуть я не успеваю.
Автомат начинает дергаться. Горячие спицы прожигают меня.
Геныч!
Я падаю на него… и вижу, что кожа возле глаз — черная!
Это не Геныч! Вот так! Не удалось Артему устроить своего брата в депо!
Душа моя с ликованием взлетает.
Свет без конца и без края, далекое, но приближающееся пение флейты… Неужели увидимся?
…Я поднимаюсь с подушки. За окном — широкий серо-гранитный простор Невы.
Покашливание. У постели, почему-то наклонной (я почти стою),— звездопад на погонах: они настолько крупные, что сияют сквозь тонкий больничный халат.
Грунин! Алехин!
— Ну, наконец-то! — произносит, улыбаясь, Алехин, и в богатом его голосе слышно многое: и наконец-то я открыл глаза, и наконец-то есть что увидеть: новое время!
Портрет Зайчика еще висит на стенке, но уже запыленный, забытый.
— Ну, все! — хрипит Грунин.— Хватит тебе под задом сидеть! Освободитель!
— Он прав! — улыбается Алехин.— Ваша голова занимала явно не соответствующее ей место. Такими людьми, как вы, теперь никто не позволит нам разбрасываться!
Чуть было не разбросались! Слезы умиления душат меня, но я все же трезво пытаюсь понять: по какому случаю такой парад? Неужто только ради меня? Ну, соображал вроде что-то… называли меня то «цифроед», то «шифроед»… дураков на ту технику и не брали!
— Поправляйтесь! — улыбается Алехин, и они уходят.
Потом так же торжественно, с целым консилиумом появляется Ромка. На петлицах у них медицинские значки — змея над чашей, а не колесики с крылышками, как у нас.
— Ну, что, пузырь? — Ромка светится самодовольством.
Везет мне: выстрел в меня послужил сигналом к перевороту. И в больнице, уже под обстрелом, когда рушился последний Оплот Социализма, Ромка сделал мне уникальную операцию, извлекая пули, и теперь рассказывает коллегам о ней.
— …Повернись!
Нашел куклу!
— Все!
Консилиум удаляется с прохладным ветром.
…Больше желающих нет?
Неожиданно приходит Маркел. Под халатом у него — уже не тело, а словно бы мощи. Но по-прежнему полон злобы!
— …Ну, как там наша установка? Фурычит? — спрашиваю я.
— «Наша»! Наша — тюрьма да параша! — злобно говорит Маркел, и я внутренне соглашаюсь с ним.
И когда я выхожу из больницы, оказывается, что «тюрьма да параша» еще не самое страшное.
Сонькина Губа. База Стратегических Вооружений. Черная вода с торчащими мертвыми деревьями. Кто по своей воле попрется сюда? Думаю, даже шпиону, крепко получающему в валюте, и то надо всю волю собрать, чтобы продержаться здесь!
Скромную подводную лодку лепят на Адмиралтейской верфи, оттуда она, поскольку Балтийское море торжественно объявлено безъядерным, медленно плывет через Неву, Ладогу, Свирь — за обычным буксиром, замаскированная под сарай, скользит среди лугов и стогов. Так мы и плыли.
И, наконец, скрылись в темной Сонькиной Губе. Здесь мне предстояло ставить на лодку новую связь — какую, я даже сам еще не знал… У нас это принято: о том, что делаешь, узнавать в конце.
Алехин только намекал, что такого еще не было… Это уж точно!
Пока мы плыли, Грунин только говорил мне, что я законспирироваться должен — якобы поругаться с начальством, запить, загулять.
Запросто!
Для конспирации мне даже и жилья не дали, чтобы не заподозрил никто, как меня ценит начальство.
Ночевал в каюте на лодке, а в свободное время с моим новым другом Колей-Толей ездили на моем ржавом «москвиче», у него же и купленном, по пыльным проселкам, искали жилье.
Много повидал я развалюх, да и почти целых домов, но, в основном, в деревнях, где жизнь была убогая, но сердитая… еще и тут мне справедливость наводить?
Коля-Толя куражился:
— Ты шале, что ли, хочешь найти?
Ехали из одной деревни в другую — и вдруг за кустами мелькнул длинный деревянный дом с заколоченными ржавым железом окнами.
Сердце екнуло: то! Не скажу, чтобы радостное было чувство, скорее — наоборот… Тишина. Зной. Мухи бубнят. Паутина светится на кладбищенских крестах.
— Выходим.
Бывший дом попа, как Коля-Толя объяснил. Поп сбежал отсюда лет десять назад — и не по политическим там мотивам, а просто семья не захотела здесь жить… И епархия почему-то отказалась от этой церкви. Уже полуразрушенная — в глубине, в зарослях, краснеет кирпичом. Вокруг нее — витые чугунные кресты в крапиве. Ближе к дому сменяются современными — деревянными, простыми, обходят дом с флангов. Тишина. Зной.