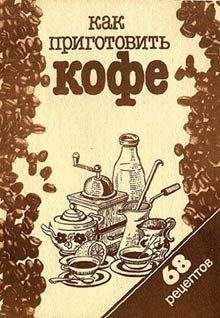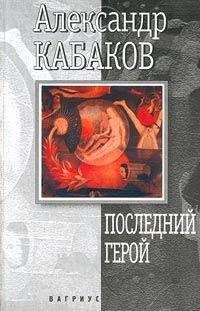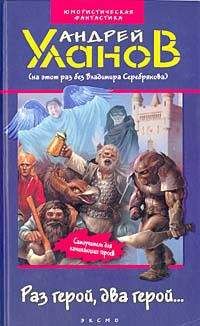Служанка Марта принесла суп в большой фаянсовой супнице. Мама уже сидела на стуле и крепилась. Платок стал совсем мокрым и напоминал тряпочку.
— Мама, — сказала Анна, — а как же папа и тетя Бет? Разве они не придут?
Тут мама перестала крепиться, вскочила со стула и убежала наверх, в спальню. Платок она уронила на пол и даже, кажется, наступила на него.
Анна помешала суп в тарелке. Есть ей уже не хотелось. Она встала из-за стола, аккуратно расправила юбку и решила пойти погулять. Стояла дивная погода. Ди-ив-ная. Если верить тете Бет. На самом деле небо хмурилось, и над садом неслись облака, убегая к морю. Анна распахнула стеклянную дверь, ведущую в сад, и подставила ветру лицо. Прическа мгновенно растрепалась, но это было не-су-щест-вен-но. Анна шмыгнула носом. До этого она никогда не шмыгала носом. Неприли-ично, как сказала бы тетя Бет. Но тети Бет не было больше, и Анна снова шмыгнула носом — просто чтобы убедиться, в самом ли деле это так приятно. Это было приятно. Анна соскочила с крыльца, подмигнула душистому горошку и побежала к калитке.
У калитки поджидал урод.
— Девочка, — заныл он, — девочка-девочка, дай пять центов. А я тебе сказку расскажу.
У Анны был неожиданный день. Ей так понравилось шмыгать носом и быть вежливой с душистым горошком, что она решила быть вежливой и со всеми остальными, даже если они и уроды.
— Вы маори? — спросила она. — Мы проходили маори в школе. Учительница сказала, что мы вас угнетали и поэтому вы вымерли. Скажите, это очень больно — вымирать?
Маори, кажется, удивился. Он склонил клочковатую голову к плечу и брякнул погремушкой. Погремушка ответила нежно и жалобно.
— Пошли к маяку, — сказала погремушка.
И они пошли к маяку. Маяк стоял на скале, и ветер тут был такой, что Анне пришлось изо всех сил прижимать к ногам свою клетчатую юбку, чтобы она не раздувалась колоколом. Это было неприлично. Неприли-ич-но. Анна подумала и отпустила юбку, и стала похожа на красный, растущий из скалы цветок. Под ногами бурлило море, кидалось на скалы и кусало их, но никак не могло откусить достаточно.
— Много лет назад, — сказала погремушка, — здесь жил один народ. Женщины варили желтые клубни и пряли пряжу, а мужчины охотились. Полгода они были вместе, но осенью мужчины превращались в больших серых птиц и улетали в далекие края. Никто не знает куда. Все зиму женщины жили одни, а весной разжигали маяк на скале, чтобы мужчины-птицы смогли найти дорогу обратно. Но однажды зимой с материка приплыли длинные лодки. Сидящие в них схватили женщин и увезли с собой, а тех, кто не захотел уплывать, — убили. И некому стало разжигать маяк на скале. Мужчины-птицы не сумели найти обратный путь. Часть из них разбилась о камни и утонула в море, а часть улетела. Но каждую весну они возвращаются сюда, в самую длинную весеннюю ночь, и кружат, и кружат над волнами, и кричат, надеясь увидеть свет маяка. Ну как, хорошая сказка?
Анна захлопала в ладоши, и ветер захлопал ее юбкой. Анне очень хотелось подарить погремушке пять центов, но у нее был только доллар. А ведь доллар и пять центов — это совсем не одно и то же.
Дома мама не крепилась. Мама бегала из угла в угол с черной телефонной трубкой. Черная трубка, как птица, сидела на мамином плече и говорила голосом тети Бет:
— Ну не расстраивайся, дорогуша. Все будет о-ке-ей.
Мама топтала платок. Анна пошла в свою комнату и села у окна, положив локти на стол. Учительница задала проспрягать два глагола, но Анна не могла этого сделать, потому что глаголы были тоже очень похожи на черных птиц. Они расселись на ветках персикового дерева и кричали: «Карр-карр». Анна подумала, не начать ли ей крепиться вместо мамы, но вместо этого достала краски и нарисовала электрического угря. Служанка Марта позвала ужинать. Когда Анна спустилась в столовую, мамы не было дома. Наверное, она ушла в церковь. После того как переставали крепиться, всегда ходили в церковь и пели что-то очень жалобное и протя-яжное.
Ночью ветер стучал в окно, как большая черная птица. Он бил и бил крепким клювом, будто хотел разбить стекло. Для ветра Анна была лакомым орешком, и скорлупа дома не могла его надолго остановить. Анна решила, что не хочет быть выковырянной из скорлупы насильно, и открыла окно.
— У-у, — завопил ветер и бросил в лицо Анне пригоршню соленых брызг.
Анна облизнула губы и довольно улыбнулась. Она знала, что делать.
Канистру с бензином Анна взяла в гараже. Папина машина стояла там, как большой доисторический ящер. Это было грустное зрелище, потому что доисторические ящеры давно вымерли. Анна лишь понадеялась, что им не больно было вымирать. Тащить канистру было вовсе не тяжело, только уже в конце пути, на искрошившейся маячной лестнице, Анна подвернула ногу. Она села на ступеньку и поразмыслила, не стоит ли заплакать. Ей было очень жаль новенькие красные гольфы, которые мама только позавчера купила в супермаркете.
На верхней площадке ветер наконец-то добрался до Анны и клюнул так, что из глаз брызнули слезы. Она отвинтила крышечку канистры и вспомнила, что забыла взять спички.
— Добрый боженька, — прошептала Анна, сложив руки перед грудью, — дай мне, пожалуйста, коробку спичек.
Она закрыла глаза и сунула руку в карман. Спички нашлись. Если вежливо попросить, тебе никогда не откажут.
Анна сложила очень красивый костер, совершенно такой же, как их учили складывать в летнем лагере. Правда, дров у нее не нашлось, поэтому вместо них Анна положила в костер папу, и маму, и тетю Бет, и служанку Марту, и урода-маори с говорящей погремушкой, и даже душистый горошек с подъездной дорожки. На самый верх костра (ведь это самое важное, что у костра наверху) Анна поставила себя, очень тщательно облила все бензином и чиркнула спичкой. Сквозь рокот пламени она еще успела услышать летящий над маяком птичий крик и прошептала, в точности как тетя Бет:
— Всё будет о-ке-ей.
Линор Горалик
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
Вокруг скакали дети, какая-то девочка в инвалидной коляске подкатывалась ко всем по очереди и говорила: «А у меня новые ботинки!» — и к ней тоже подкатилась, уже раза два или три, но она не слышала. Ей все время казалось, что плюшевый дельфин становится меньше: она сжимала его так сильно, что он все уминался и уминался. В игровой комнате, как всегда, пахло средствами для мытья ковров: на эти ковры вечно рвало кого-нибудь из детей, идущих на поправку. Уже приходил кто-то из врачей, пытался взять ее за руку — она вырвала руку и разревелась, забившись в угол, от нее отстали. От сидения на полу у нее разболелась попа, но она не могла ни сдвинуться, ни открыть глаза, только тискала дельфина и раскачивалась. Медсестра попыталась уговорить ее уйти из игровой комнаты (ничего не вышло), потом ушла сама, потом вернулась и попыталась заставить ее проглотить таблетку (ничего не вышло), потом ушла снова, и вместо нее вернулась старшая сестра. «Маргарита Львовна, — строго сказала она, присев на корточки. — Уже вызвали главврача, он в пути, он назначит комиссию, вам надо там быть. При назначении комиссии вам надо присутствовать, нехорошо. Давайте вставайте». Тогда она позволила поднять себя с полу и переодеть из залитого кровью зеленого хирургического халата в чистый, белый.
Фекла Дюссельдорф
РАЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
«…а потом я умру — понарошку, на время — и попаду в рай для хороших девочек. В раю будут рыжие немецкие куклы, говорящие „Мама!“, конфеты „Мишка на севере“ с серебринкой под фантиком, сырые сосиски, молоко без пенки, мороженое по двадцать две копейки, и чтобы бесплатно, и сколько захочешь, и не заболело горло — зачем нужно больное горло, если никакой школы тоже нет?» Будут летние платья с оборками; большие некусучие собаки, которые не хотят есть и не писают дома; голубые гибкие пластинки из журнала «Колобок», синие гольфы с помпонами, духи «Красная Москва», потыренные у мамы, мандарины без диатеза внутри, зубная паста с вишневым вкусом, мультики (только не с кукольными уродцами!) по телевизору и бусы из цветного стекла.
Не будет взрослых. Не будет взрослых — кричащих, запрещающих, ругающих. Только папа и мама. Ну, еще бабушки и дедушки. Но только добрые, и чтобы никто не умирал. Только уезжали в санаторий на время, когда уж сильно надоедят. Не будет посторонних дяденек. Вообще никаких дядек, пожалуйста. Мальчишек, впрочем, тоже не будет. Ну, может, парочку только — отличников там или еще кого. Не будет будильника в семь утра и прочего детского сада — по хмурым зимним улицам, в шарфе и шапке. О зиме надо, конечно, вообще подумать. Может быть, ее там сократят. Оставить только Новый год — без стихов на стуле! — санки и коньки.
Если я буду себя хорошо вести, то меня со временем переведут в следующий класс. Где школы тоже не будет — только танцы под «Белые розы». Вот там мальчишек, конечно, придется добавить, но выборочно. Не будет уроков физкультуры, чтобы через козла и по канату. Не будет шитья уродливых фартуков и собирания на резинки головоруконогих пластмассовых пупсов с бантиком на макушке. Не будет расти грудь, делая тесными под мышками все платья. Будут хорошие книжки про любовь и фильмы про мушкетеров целыми сутками. Про Констанцию — в особенности.