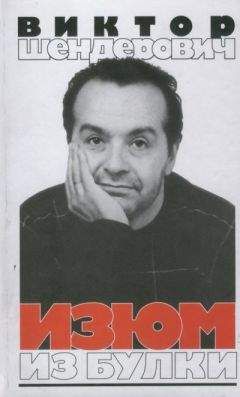Промашка
Дирижер Кирилл Кондрашин выбрал свободу. Уехал из СССР. Умер в эмиграции и был похоронен в Амстердаме, на скромном кладбище Вестерфельд…
— Вот! — нравоучительно заметил после его смерти некто из числа оставшихся. — Зря он уехал! Лежал бы как человек на Новодевичьем…
Жена Зиновия Гердта, Татьяна Александровна, сидела на даче в Пахре и составляла печальный список друзей, уехавших в эмиграцию…
За этим занятием ее застал живший по соседству драматург Эрдман.
— Таня! — нравоучительно произнес он. — Никогда не составляйте никаких списков! Знаете, однажды я решил составить список людей, которые придут на мои похороны…
Николай Робертович взял паузу.
— Потом подумал и рядышком составил другой: кто придет на мои похороны в дождливую погоду…
Эрдман взял еще одну большую правильную паузу и закончил:
— И потом ничего не смог доказать следователю!
Дело было в конце тридцатых. Дед вернулся с работы. Бабушка сидела с шитьем.
— Эйдлинька, — негромко сказал дед, — а ведь у нас фашизмик…
Бабушка кинула в него ножницами, но не попала. Она сама уже все понимала, но держала в себе, — этим, наверное, и была вызвана вспышка ярости.
Бабушка была правоверной коммунисткой. Мой отец был назван в честь Луначарского, старшая тетка — в честь Крупской, младшая — в честь Розы Люксембург.
Вот вам теперь смешно, а было — обычное дело…
«Еб твою мать, — сказал князь и грязно выругался…» — говорилось в старом анекдоте.
Обратный порядок действий зафиксирован в архивах ЦК КПСС.
В 1948 году некий чиновник Моссовета возопил в партийные небеса жалобу на министра вооружений Устинова. Будущий министр обороны занимал в Москве несколько престижных квартир, и Моссовет тщетно пытался призвать его к нормам партийной скромности. Военно-промышленный цюрюпа падать в голодный обморок явно не собирался.
Дальнейший ход партийно-советского диалога в документе описан так: «После грубых уличных оскорблений министр Устинов послал меня к ебаной матери, назвал говном и бросил трубку».
Верный сталинец, завотделом науки ЦК КПСС Сергей Трапезников сформулировал однажды аж в письменном виде: «Волчья стая ревизионистов свила осиное гнездо».
У Козьмы Пруткова про это сказано: иногда усердие превозмогает рассудок.
Говорят, один из ленинградских партийных бонз — то ли Романов, то ли Козлов — на вопрос кого-то из иностранцев о смертности в СССР отрезал:
— У нас смертности нет!
В Воронежском драмтеатре шла Всесоюзная комсомольская конференция или что-то в этом роде. На сцене стоял президиум, на авансцене — трибуна, в трибуне торчал гладкий чувак и рассказывал кочумающим в зале про нравственные искания молодежи семидесятых.
Все как обычно, то есть.
А в президиуме сидел некий областной начальник. Театральный свет бил начальнику в глаза, и он попросил помощника убавить накал. «Световика» на месте не оказалось. Инициативный помощник решил справиться самостоятельно, и повернул не тот рычаг, и включил поворотный круг…
И на глазах у молодежи семидесятых президиум дрогнул и поехал прочь, а на его место под свет софитов торжественно въехал стол, который был приватно накрыт за задником для членов президиума — с сервировкой, прямо сказать, не характерной советского для Воронежа: водочка, балычок, сервелат…
У стола, со стопкой в руке, балыком на вилке и открытым в изумлении ртом, стоял и медленно ехал вместе с натюрмортом большой партийный босс.
Для полноты впечатления следует понимать, что чувак в трибуне все это время продолжал рассказывать о нравственных исканиях молодежи семидесятых…
А вот история другого комсомольского форума тех же времен.
В трибуне стоял посланец дальневосточного комсомола и вещал, глядя в бумажку. Наконец, уже весь в пене от собственного темперамента, он вышел на кульминацию:
— И мы, комсомольцы семидесятых, говорим президенту Никсону: давайте деньги!
В зале удивились. Оратор и сам удивился — и внимательно рассмотрел шпаргалку. И повторил, озадаченный:
— И мы, комсомольцы семидесятых, говорим президенту Никсону: давайте деньги.
В зале зашумели. В президиуме забеспокоились. Оратор бараном глядел в завизированный текст. Потом всмотрелся в синтаксис. Потом перевернул страницу.
И закончил фразу:
— …Давайте деньги, которые мы тратим на гонку вооружений, потратим на строительство моста через Берингов пролив!
В Ташкенте, при большом скоплении узбекской партийной элиты и личном присутствии товарища Рашидова, шло культур-мультурное действо в честь открытия республиканского съезда партии.
Мимо зала, застыв на поворотном круге, проплывал главный народный артист Узбекистана, загримированный под Ленина, — в привычной позе, с вечно протянутой рукой…
Проплывая мимо Рашидова, «Ленин» не выдержал и поклонился в пояс:
— Здравствуйте, Шараф Рашидович!
«Что-то с памятью моей стало…»
К шестидесятилетию т. наз. «Великого Октября» историки решили собрать бесценные воспоминания участников штурма Зимнего (многие были еще живы).
Участники штурма рассказали много интересного.
Как с винтовками наперевес они бежали в арку, как с криком «ура» карабкались на ворота с орлами, как преодолевали пулеметный огонь на лестнице Зимнего, как рукоплескали потом Ильичу, шедшему сквозь овации на съезде Советов…
Историки чесали репы. Ни на какие ворота с орлами в семнадцатом никто не карабкался, и пулеметного огня на лестнице не было, и сквозь овации на трибуну шел — артист Борис Щукин. Ветераны, не сговариваясь, пересказывали фильм «Ленин в Октябре»!
Но в сущности, никто из них не врал. Просто после сорокового просмотра гениальной агитки помнили они уже — именно это.
Дело было в Туле, в начале семидесятых. Шло собрание областного партактива или что-то в этом роде, глубоко советское… После описания расцвета, достигнутого областью в промышленности и сельском хозяйстве, докладчик типовым образом дошел до культуры.
— В настоящее время, — радостно доложил он собравшимся, — в нашей писательской организации состоит восемь человек… А до революции на всю Тульскую область был только один писатель!
Секцией сатиры и юмора в Москонцерте заведовал некто Бахурин, человек высоких художественных требований. На худсовете он закуривал сигарету в мундштуке и веско произносил:
— Жаль, что в программе нет афопеоза …
Был он человеком, как говорится, глубоко пьющим, и до одиннадцати приходить к нему с бумагами было бессмысленно. Осведомленный об этом Геннадий Хазанов в разгар лета явился в Москонцерт за какими-то документами ближе к обеденному часу.
Бахурина в кабинете не было, и артист пошел на поиски.
Начальство стояло на лестничной клетке, курило и разговаривало само с собой. Одинокий голос человека гулко разносился по лестничному пролету:
— Партком в отпуске… Местком в отпуске… Сопьёсся на хуй!
Коротко помянутый еще Маяковским (см. заголовок), комсомольский поэт Безыменский, обличитель Булгакова, Пастернака и американского империализма, полвека бесстрашно проколебался вместе с линией партии — и дожил до пенсионных лет, не утратив задора.
В конце шестидесятых он, автор «Комсомольского марша», почетный член ЦК ВЛКСМ, принес в редакцию «Литературной газеты» стихотворный фельетон, посвященный борьбе с бюрократизмом. Но что-то, видать, перещелкнуло в немолодой голове, и в портрете главного отрицательного персонажа появились густые брови.
Сам Безыменский ничего не понимал, пока, после выхода фельетона, ему не стали звонить и восхищаться его отвагой. А вот чего-чего, но отваги в Безыменском не было отродясь… И семидесятилетний фельетонист в ужасе побежал в «Литературную газету».
Он ходил по кабинетам и каялся за брови — ничего не имел в виду, не те брови, совсем другие брови! В кабинетах качали головами…
И уже в некотором отчаянии, он спросил молодого редактора Владимира Владина:
— Что же теперь будет?
— Да-а… — вздохнул безжалостный Владин. — За такое могут и из комсомола попереть.
…в те годы ходила эпиграмма:
Волосы дыбом, зубы торчком,