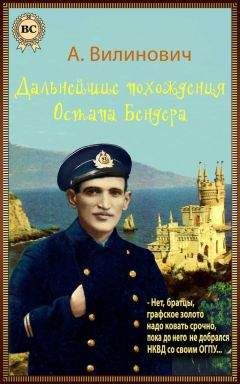Процессия, превратившись в озверелую толпу, отдалась упоению погони.
О, родимые проходные дворы, заборы, брандмауэры, крыши, чердаки, лестницы, спасшие заблудшие души, которые, быть может, ненароком сами спасли кого-то от погрома, взяв удар на себя.
Путая следы и балансируя по карнизам, распугивая голубей и кошек, мы благополучно добрались до тайного грота, где могли отсидеться.
На удивление, я довольно быстро очухался от дикого гона.
Остап же погрузился в мыслительные дебри, напрягая извилины.
В этот знаменательный момент он напоминал худосочного ангелочка, помявшего свои нежные крылышки в переполненном трамвае третьего кольцевого маршрута.
— М-да, — я попытался вместить свою широкую, не по годам, веснушчатую харю в осколок зеркала. — М-да, командор, но, как это не прискорбно, погромщиков из нас не получились… Полная Цусима и маленький Мукден!
— Что ты там проворковал?
Ну, тут я и выдал отчетливо, но с воинствующим самурайским акцентом:
— Бан-зай!
— Метил в воробья, попал в гуся!
Из задумчивого ангелочка Остап мгновенно превратился в юркого бесенка, предвкушающего апокалипсис.
— Не щипайся, больно!
— Бланманже, эклеры, содовая! И тридцать три удовольствия впридачу! Коля ты мой, Остен-Бакен!
— Тронулся?
— Обижаешь, — Остап прокашлялся и затянул. — Цу-у-у-у-сима! Во имя отца и сына и духа святого!
На всякий случай я спрятал зеркальце в тайник между камнями. Вдруг начнет вены резать — себе или мне — какая разница — все равно будет море крови, а у меня от нее — даже в минимальных количествах — мгновенно полуобморочное состояние и дурнота. Спрятал — и приготовился к самому худшему.
Остап набирал обороты.
— Вы, Остен-Бакен, кажись, завзятый любитель ребусов?
— Ну да, балуемся изредка.
— Так вот, скажите, как родному, что остается от утонувшего матроса?
Опасаясь подвоха, я состроил глупую физию:
— Жена и детки.
— Бабушка, теща и троюродная племянница… Остен-Бакен и есть Остен-Бакен!
— Ну, тогда память… Врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает!..
— А может и следы на воде? Кумекай… От тебя, утопленника, остались бы только круги и ни фига больше, а от героического матроса — бескозырка!
— По мне — хоть ботинки.
— Ботинки тяжелые, а ты, Остен-Бакен, глуп, пробка пробкой… Чуешь, как можно загнать бескозырочку погибшего во славу Царя и Отечества!
— Кто на нее позарится?
— Увидишь. Вопрос — где взять.
— У флотских.
— Ясно, не у дворников… Попробуем-ка махнуть шило на мыло.
— Хочешь, я стибрю дома пачку папирос.
— Дешевка… Надо что-нибудь позабористей.
— Вишневая наливка?
— А помнишь, ваш студент трепался.
— Это который во флигеле?
— Анархист, помнишь?
— Про нелегальные писульки?
— Как он там завинчивал про народ? А матросы что, хуже народа? Книжки-то — за жисть.
— Я видел, видел… У него под койкой пачками…
— Позаимствуем.
— Маман мне запретила с ним якшаться.
— Сдрейфил?
— А вдруг он по шее накостыляет?
— Да мы, как всегда, заглянем на минутку. Я буду зубы заговаривать, а ты только успевай прятать за пазуху. Для начала штук пять хватит…
Студент-анархист, снимавший у нас флигель, был человек общительный и добрый и даже нам, шкетам, внушавший азы своего, как он выражался, единственно правильного учения.
Тем же вечером мы просочились в прокуренную, неприбранную комнату со следами то ли вчерашней групповой пирушки с курсистками, то ли заседания центрального комитета, по забывчивости еще не разгромленного жандармами.
Хозяин пил чай в прикуску с маковыми баранками.
Остап оседлал свободный стул и принял горсть баранок.
Я тоже, отоварившись баранками и куском сахара, приткнулся на краешек койки, той самой, под которой складировалась нелегальщина.
— Господин студент, а когда вас повесят, — начал Остап взволнованно, — вы будете дрыгать ногами?
— Предсмертная конвульсия.
— А можно одной большой-пребольшой бомбой взорвать царя, трех генералов и десять казаков с пиками?
— Если революция потребует — сделаем.
— А кто был первый анархист — Адам или Каин?
Ничего не подозревающий студент отвечал неугомонному несмышленышу серьезно и обстоятельно, не переставая уметать маковые баранки.
Я же, игнорируя развернувшуюся дискуссию, выцарапал нужное количество тонких запрещенных брошюрок.
В их эффективности мы убедились уже на следующий день.
«Анархия, государство и собственность».
«К вопросу свободы воли».
«Русское освободительное движение в свете идей князя Кропоткина П.А.».
«Коммунизм и анархия».
«Герберт Спенсер, эволюционистская мораль, принципы социологии и его понимание общественных процессов».
Остап за одну ходку к публичному дому выменял пять бескозырок. А за «Спенсера» растроганный боцман даже отдал ему свой свисток.
В реализации товара среди сердобольных барышень, прогуливающихся по бульвару, я участия не принимал, наблюдая издали за священнодействием вдохновенного малолетнего вымогателя.
— Дамы и господа хорошие… Поимейте внимание… Отдам за даром по роковым обстоятельствам судьбы… Безкозырочка брательника, натурально утопшего в Цусимском сражении… Он пожертвовал молодой жизнью ради вас и ваших близких… Мать не вынесла горя, скончалась в одночасье… Отец, судебно-поверенный, в бреду помещен в богадельню… Сестра единокровная вынуждена пойти на панель… Бескозырочка святая реликвия защитника Царя и Отечества… Спасибо, спасибо… Мы еще покажем этим узкоглазым макакам! Мы разнесем их островки из пушек на кусочки… Как вы щедры, мадмуазель… Дай вам бог жениха — победителя…
И так Остап впервые вкусил сладость успеха — бескозырки под патриотический аккомпанемент шли нарасхват и в основном за «красненькие».
Мы уже запаслись новой «нелегальщиной» с соответствующими магнетизирующими названиями — но тут ситуация в стране обострилась, и матросов перестали отпускать на берег.
Люди сделались нервными, истеричными, подозрительными.
В результате Остапу чрезвычайно захотелось в уютный волшебный город Рио-де-Жанейро, о существовании, которого он узнал из моих (зачем ложная скромность) уст. И о мулатах, и о белых штанах, и о географическом положении, климате, флоре и, конечно, фауне.
— Прости, командор, — сказал я, рыдая. — Но я не могу покинуть немытую Рассею!
— Ладно, Остен-Бакен, старайтесь тут без меня, трудитесь. Когда вымоете старушку — желательно с туалетным мылом — я вернусь.
Остап исчез с горизонта — но неожиданно снова появился в поле моего удивленного зрения. Я пребывал в полной уверенности, что командору доступно не только Рио-де-Жанейро, но даже и Южный полюс.
— Эх, такое дело сорвалось.
Утомленный, разочарованный, даже чуточку меланхоличный экс-эмигрант больше ничего не добавил, а через месяц все же раскололся.
Оказывается, поразмыслив перед отбытием, Остап пришел к строго определенному выводу: до Рио-де-Жанейро слишком далеко, и поэтому не мешало бы зафрахтовать посудину понадежней, чем какая-нибудь дырявая шаланда. И он разработал гениальную комбинацию, которая включала в себя грозовую (в прямом и переносном смысле) атмосферу лета девятьсот пятого.
Первым делом он отправился на броненосец «Князь Потемкин Таврический» — видите ли, ему было бы весьма лестно и приятно нарисоваться в городе мечты на этаком многоствольном (я имею в виду артиллерию, а не лес) корыте.
У трапа его, естественно, остановил грозный часовой.
— Мальцам ходу нема!
— Ой, мне жгуче треба до вашегу командиру.
— На хрена свинье свисток… Эй, жертва аборта, отчаливай пока не пальнул! Агитаторы, падлы, донимают, яко блохи… Так на хрена попу гармонь?
— Да я тут променад делал мимо их дому, и вижу в окошко промеж шторок, как сам господин полицмейстер тараканит командирскую женушку.
— Побожись.
— Вот те крест.
— Тараканит, говоришь?
— Еще как!
— Полицмейстер?
— Собственной персоной.
— Ну дуй, салажонок, обрадуй его высокоблагородие.
Юнга-самозванец поднялся на палубу, обозрел ситуацию и шнырк — туда, шнырк — сюда.
А приближалось время обедать. Ну, и недолго думая, Остап сыпанул в борщ по-флотски горсть болтов из машинного отделения. Для пущей наваристости добавил гаечные ключи, масленку и ветоши погрязней.
Эффекта никакого.
Тогда Остап бухнул в перловую кашу полтора десятка ботинков вместе со шнурками — новеньких, прямо из каптерки.
Тоже — промах.
Остался компот. Его-то юнга и заправил щедро винтовочными патронами и даже умудрился сунуть туда фугасный снаряд приличного калибра.