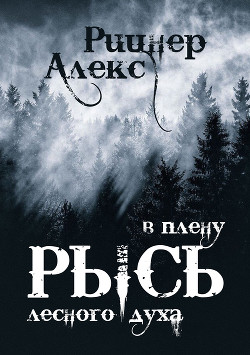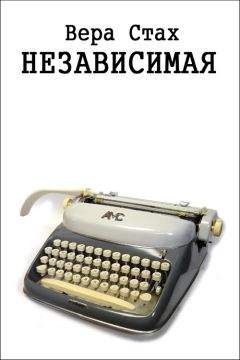У него страшно колотится сердце. Словно ярость заперлась снаружи — и он ее не пускает, а она хочет — выдрать с мясом щеколду.
Тим выходит минут через десять. Нос у него красный, выплаканные глаза. Стах изучает его взглядом. Тим тушуется. А потом леденеет:
— Отвернись.
Стах усмехается и выполняет приказ. Гордость плаксы вызывает у него внутри торжественное шествие: оно нарастает и нарастает — и набирается в легкие, и никак не может лопнуть, чтобы стало легко — и пусто.
Стах, как обычно, сотню лет ждет, пока Тим закончит шнуровать ботинки. Пока ждет, точно знает, что смутило Соколова: бордовое пятно на манжете.
Стах одевается следом за Тимом, плетется за ним — тенью. Он — яркий и рыжий. За бледным брюнетом.
Чего-то не хватает. Куска из целой картины.
— Где твой рюкзак?.. Они все вещи скоммуниздили, что ли?
— Угу, — отзывается без охоты.
— Это надолго — не вернут? Может, поищем?
— Мы не найдем. У меня никогда не выходит…
У Тима голос — поломанный и тихий. Простуженный. Он прочищает горло. Прячет красный нос за воротник, прячет руки в карманы. Стах хочет его вылечить. Он знает, что:
— Вдвоем сподручнее.
— Да… это мне уже говорили… Это навсегда, Арис. Насовсем…
Простуженный голос похож на смирение.
VI
Они идут в колючей тишине, почти в такой же колючей, как мороз. Февраль — самый холодный из всех месяцев зимы заполярья. Тим — самый холодный из случайно выбранных двенадцати человек на планете.
Стах минует развилку. Тим косится на него вопросительно.
— Тебя не потеряют дома?
— Не потеряют. Пригласи меня на чай.
Тим молчит. Не понимает, спрашивает тихо:
— Зачем?..
— А зачем ты раньше приглашал?
Тим не сознается. И не возражает. И не зовет. Стах идет непринятым и неотвергнутым. Сам по себе. За компанию и вне компании. Но, если бы Тим хотел его прогнать, он бы сказал, он бы заявил: «Арис, иди домой», — вьюжным пронимающим тоном.
Стах упрямый — идет. Тим заходит в свою пятиэтажку и придерживает пальцами дверь. Он придерживает пальцами дверь — и Стах ускоряет шаг, перестает сомневаться.
VII
Тим сидит в кухне. Закрыл манжету рукой. Вид у него отрешенный. Стах опускается на корточки перед ним. Смотрит снизу вверх. Тим сразу оживает, теряется, тушуется.
Ладно, Тим, это не так-то просто. Это не так-то просто, черт побери. Стах не знал, что — настолько не просто, когда такое затеял.
Но теперь поздно метаться, и он просит:
— Ну показывай, чего наделал.
Тим стихает, как-то уменьшается, сутулится. Стискивает пальцы. Стах перехватывает их и ослабляет, отнимает, открывает — бордовое пятно. Расстегивает манжету почти без сопротивления. Оголяет Тимово тонкое запястье, поддевает обороты узкого, сильно пообтрепавшегося черного ремешка: он свободно держится, легко приподнимается. Тим стер кожу до крови. Наставил синяков. Стах расстегивает, снимает, кладет часы на стол. Берет его за руку, чтобы осмотреть. Говорит:
— Надо промыть и обработать.
Тим сидит неподвижно. Стах поднимает на него взгляд.
Сердце пропускает удар. Стах думает: ну все, кранты. И чувствует, что весь уже покраснел с этой своей выходкой, и знает, что видно.
Тим оживает — одними лишь пальцами, проводит ими по коже. Стах сжимает его крепче, чтобы прекратить движение — и воздуха не остается, только давление и жар — и кажется, что плавится лед Тимовой руки.
Тим поверхностно и часто дышит. Размыкает губы. Они небольшие, но пухлые. Тоже бледные, как он весь, обветрились. Стах не может смотреть на них, заставляет себя — в глаза. Они гипнотизируют — можно в них провалиться, как в бездну, и лучше, чтобы в какую-нибудь бездну действительно можно было — насовсем и неметафорично.
Тим трогает Стаху волосы, словно хочет убрать их за ухо. Не убираются. И чем дольше длится вот это все — немое, лихорадочное, нежное — тем страшнее.
Стах повторяет, словно заучил, словно фраза спасет:
— Надо промыть. И обработать.
Тим слабо кивает.
Стах поднимается — и только затем отпускает. Тим роняет руку почти безвольно. Потом скрывает лиловое белыми пальцами. Поднимается и проходит мимо, уводит за собой запах горчащей сладкой прохлады, и Стах застывает, и прикрывает глаза, вдыхая медленно, наполняя легкие — до отказа, до жжения, и не знает, почему еще стоит, если не чувствует ни ног, ни пола.
VIII
Между ними стол. Между ними действие. Стах перебинтовывает Тиму запястье. Тот наблюдает отстраненно то за руками, то за Стахом.
Часы, с внутренней стороны ремешка — серые, с бордовыми разводами, лежат рядом с ними. Их стрелки неподвижны.
— Зачем ты носишь вставшие часы?
— Они… напоминают о маме.
— Даже если она уехала — и не пишет?..
Тим вырывает руку — и в тот же момент вырастает стена его отчуждения. Стах извиняется тоном:
— Я пытаюсь понять…
Тим поджимает губы и не отвечает. Стах смотрит на него несколько секунд. Напряженно и вопросительно. Вот он не планировал, что заденет. Не этим. Не так. Он пробует коснуться, тянется к Тиму — осторожно. Тот позволяет. Стах возвращает себе его руку.
— Вот Тиша… тебе не нравится меня слушать, я постоянно что-то не то говорю, и все равно…
Стах не знает, что «все равно». Тим вроде не особо его терпит. Стах просто должен знать, почему при этом не гонит с концами. А если гонит и с концами — особенно.
Тим спрашивает:
— Хочешь уйти?
.
Стах замирает и поднимает на Тима взгляд. Усмехается.
— Ты хочешь, чтобы я ушел?
Тим тут же делается каким-то несчастным, мотает головой отрицательно. Он не выглядит так, словно истерика совсем прошла. Он выглядит так, словно она не прекращалась.
Стах заканчивает с его бинтами, обнимает тонкое запястье пальцами, пробует протиснуться в тишину:
— Мне кажется, я все время с тобой лажаю. Постоянно парюсь, по двести раз думаю — и ничего не помогает. Такое чувство, что экзамен — и переводной. Какой-нибудь вузовский. Я без претензии, просто… — он усмехается, — не привык ходить в отстающих. Совсем.
Тим ничего не отвечает. Стах слабо кивает — себе: Тим не смотрит. Стах отпускает его. Наблюдает, как он прощупывает пальцами бинт, как свыкается. Что ж, теперь ему снова есть что терзать… помимо кого-то.
IX
Горький чай. Черный и густой. Сойдет под ситуацию и в целом. Стах делает еще один глоток, слабо морщится, оставляет чашку, чуть наклоняет. Смотрит в зеркало темной жижи на себя — под яркой кухонной лампочкой. Кранты, конечно, зажгло светом волосы, но на нимб, как ни крути, не тянет…
Стах пытается узнать:
— Что ты будешь делать? с вещами?
— Ничего.
— А учебники?..
Тим пожимает плечами, сознается:
— Не хочу об этом думать. Не сейчас…
— А может быть, и никогда? — усмехается.
Но Тим серьезен — и кивает, и киснет. И ковыряет бинты, уложив на столе руки. Стах хочет, чтобы он перестал, трогает его пальцы, совсем немного, дурашливо, поддевая подушечки. Тим увлекается, сгибает один, ловит на «крючок» — и тянет уголок губ.
Когда Стах замечает, что Тим меньше грустит, он, конечно, тоже принимает правила игры, снова задевает его пальцы — и снова попадает в плен. И даже думать не думает, что это значит и как выглядит.
X
Расстаются чужими. Тим прижимается к комоду и занимается своим запястьем больше, чем проводами Стаха. Тот, собравшись, замирает, а потом, пораскинув мозгами, открывает себе дверь сам. Выходит, но заглядывает обратно, чтобы спросить:
— До завтра?
Тим поднимает рассеянный взгляд — и ничего не отвечает. Стах усмехается и поправляет сам себя:
— До встречи.
— До встречи… — повторяет Тим эхом — и позже, чем закроется дверь.
========== Глава 8. Море ==========
I
Март и понедельник начинаются с того, чем кончился февраль: куда можно закинуть рюкзак? Да так, чтобы никто не нашел? Да так, чтобы не в первый раз?.. Два корпуса. Сколько десятков кабинетов?.. Сколько помещений, кроме них?