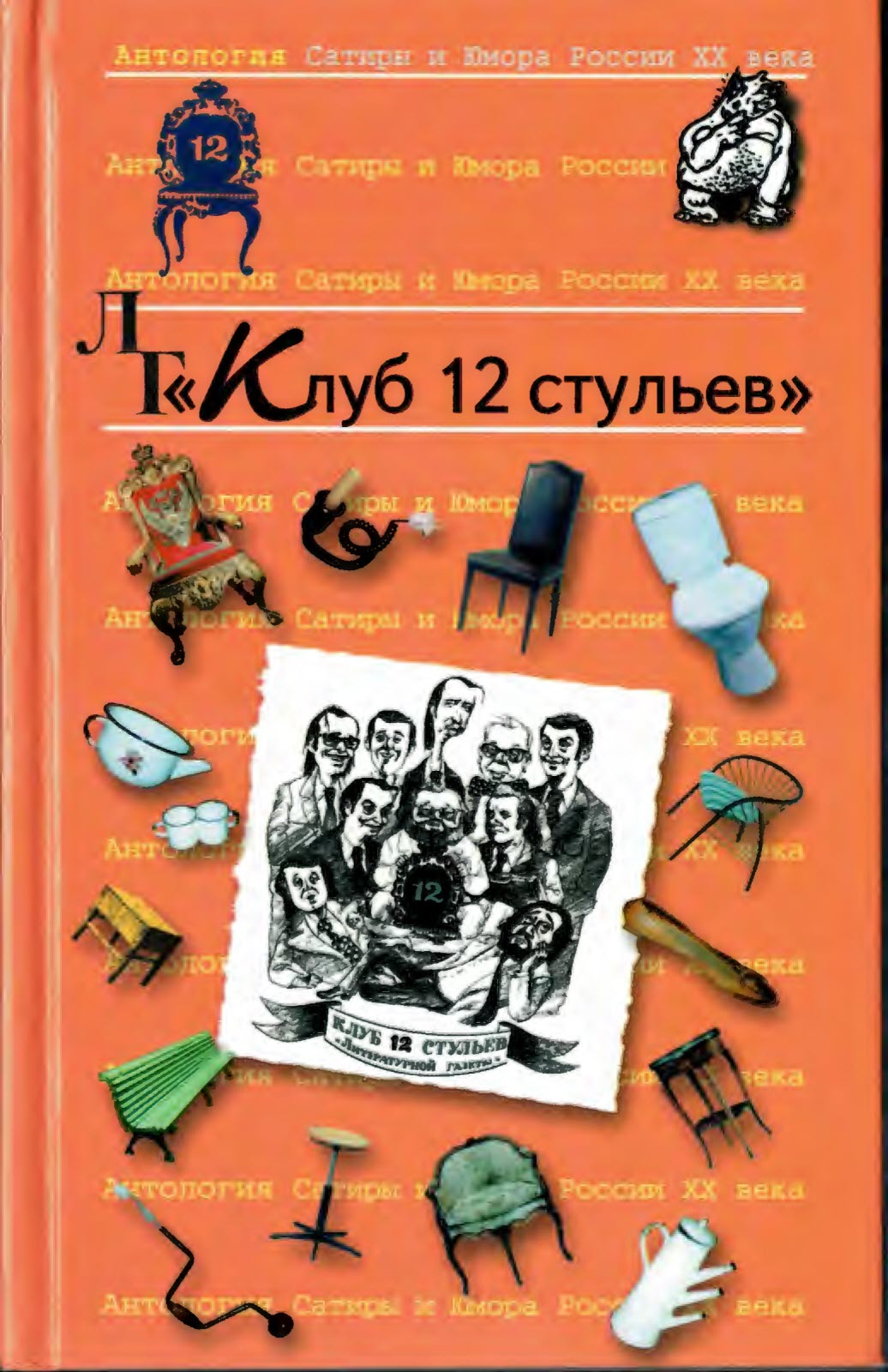тут в такси стало очень тихо.
— Как… как? — пролепетал таксист. — Зачем вы говорите, чтобы я ехал в сторону от асфальта, в сторону по дороге, туда, где могут быть ямы, кирпичи, стекла и неприятности? Давайте лучше я вас высажу здесь, а дальше вы пойдете пешком и своим ходом.
— Товарищ! — сказал я, чувствуя, как закипает жидкость в моих жилах. — Товарищ! А я все-таки попрошу вас везти так, как я это заказывал по телефону, то есть налево. Я бы с удовольствием пошел пешком, но я не могу.
— Почему это вы не можете? Все могут, а вы не можете. Почему это?
— Да потому, что я… я хромый. Я упал со скал. Знаете песню «А когда он упал со скал»? Так это я и упал. Я упал. У меня теперь одна нога короче другой. Понял?
И я замолчал, а таксист опять скрипнул зубом. Ишь, скрипун!
И доехали, представьте себе, очень хорошо. Таксист, правда, все поскрипывал, но это так, ничего.
Я расплатился. И вышел, хромая.
Да. Со стыдом, но признаюсь вам, что я захромал. Я притягивал к себе ногу, переваливался с боку на другой и полз-подползал к углу тетенькиного дома.
А за углом припустил. Я оказался бы мигом у тетеньки, если бы не… если бы не… Если бы не обнаружил в темном проеме подъезда все того же таксиста, который неизвестно как сумел меня перегнать.
— Ну и что? — сказал он. — Хромый! Упал со скал? Не можешь?
Я оробел и отвечаю:
— Не хромый, но не могу. Не хочу. А везти меня к дому вы были обязанные, так как это обговаривалось по телефону.
А тем временем уж и ночь наступила. То светили ясные звездочки, а тут вдруг стало темно. Темно-темно. И таксист, темнея лицом, сказал мне, находясь в темном подъезде:
— Бессовестные люди, — сказал таксист. — Совершенно обнаглевшие, бессовестные люди. Волки. А я-то пожалел. Дай, думаю, прокачу беднягу. Я, конечно, пожалел, но решил проверить. И вот. Вот. Как я ошибся! Как я ошибся! Бессовестные… Трахнуть бы тебя монтировкой. Трахнуть бы, да нельзя. Нельзя. Трахнуть, а? — прошептал он, наклоняясь ко мне.
— Как вы так сразу… монтировкой. Нет такого закона. Пустите. Я больше не буду, — ныл я, зажмурившись. — Пустите.
А когда открыл глаза, таксиста уже не было. Не было и машины. Никого и ничего не было. Был новый микрорайон, тетенькин дом, а больше никого не было. И ничего.
Поэтому вполне возможно, что вся вышеописанная история мне пригрезилась спросонья. Ну, вообще-то. положим, не вся…
Строили дом, строили…
Выстроить никак не могли.
Во-первых, кирпич. Если он есть — его воруют.
Во-вторых, стекло. Если его нет — значит, его разбили. А если оно есть — значит, еще разобьют.
В-третьих, шпиль. Только его поставили — следующей ночью кто-то в черной маске пришел на крышу и тихо спилил его обыкновенной крестьянской пилой. Ну хотя бы спилил и рядом оставил, злодей, а то унес с собой, ворюга проклятый.
После этого пошло. Совсем обнаглели. Кто-то фундамент утащил, кто-то — лестницу, кто-то — солнечную стену… О кафеле и говорить не надо: он до стройки ни разу и не дошел, его здесь рабочие и в глаза не видели никогда. Не знают даже, что это — кафель — такое. Когда слышат «кафель», некоторые думают, что это пиво новое, а другие, более культурные и начитанные, — будто это новая планета какая-то неподалеку от Луны, только немного сзади, и потому она, эта самая Кафель, нам долго не была видна.
Когда дом был готов, приехала комиссия его принимать.
— Ну что ж, — сказали, — нам лично это помещение нравится. Архитектура современная. Интерьер тоже вполне заслуживает. В общем, пусть первыми сюда введут тех, кто возводил это замечательное здание.
И двери нового городского суда широко распахнулись перед строителями.
Виктория Токарева
Сразу ничего не добьешься
Федькин проснулся ночью оттого, что почувствовал себя дураком.
Бывает, внезапно просыпаются от зубной боли или оттого, что в ухо кто-то крикнет. Федькину в ухо никто не кричал, в его семье не было таких привычек, зубы у него тоже не болели, потому что были вставные. Федькин просто почувствовал себя дураком — не в данную минуту, а в принципе. Возможно, это было наследственное и перешло к нему от родителей, а может, родители были ни при чем.
Федькин лежал и смотрел в потолок. Потолок был белый, четкий, как листок бумаги. Он сам его белил два раза в месяц. Федькину больше всего в этой жизни нравилось белить потолки: стоять на чем-нибудь высоком и водить над головой кисточкой — в одну сторону и в другую.
Федькин смотрел на свою работу, и настроение у него было грустно-элегическое.
А за окном между тем начиналось утро.
Утро начиналось для всех: для дураков и для умных. Федькин помылся, оделся и сел за стол, а жена подала ему завтрак. Завтракают все — дураки и умные, и жены тоже есть у всех. Иногда бывает, что у дурака умная жена, а у умного — дура. У Федькина жена была не очень умная, но вовсе не дура. Она ходила по кухне с лицом, блестящим от крема, а волосы у нее были собраны на затылке в хвостик и перетянуты резинкой от аптечной бутылки.
Федькин посмотрел на ее хвостик и почувствовал угрызения совести.
— Зина, — сказал он, — а ты зря тогда за меня замуж пошла…
— Почему? — удивилась Зина.
— Дурак я.
— Вот и хорошо, — сказала Зина.
— Что же тут хорошего? — не понял Федькин.
— Спокойно.
Самое главное в этой жизни — точно определить свое место. Чтобы соразмерить запросы с возможностями.
Когда Федькин вышел в это утро на улицу, он все про себя знал. И ему стало вдруг