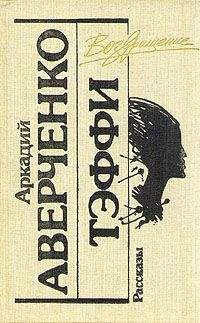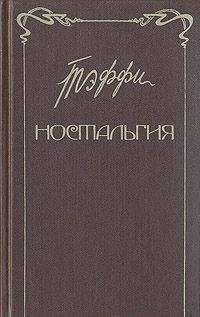— Что, Устинья бьет ее, что ли? — удивлялись мы.
Но как-то непохоже было. Уж очень наша слуга была тихая, ходила с опущенными глазами и говорила почтительно.
Все бы хорошо, но надо сказать, что водились за ней странности. Как их назвать, даже и слова не подберешь. Рассеянность, что ли. Например, пошлешь ее за булками, а она принесет петуха. Ну куда нам петуха к чаю?
Позвали раз мы вечером гостей — доктора Мухина и следователя с женами, в винт играть. Все приготовили, ждем.
Вот кто-то как будто позвонил, слышим, Устюша открывает, но, однако, никто не вошел. Потом опять звонок и опять никого нет. Муж говорит: «Что-то здесь странное». Позвали Устюшу.
— Кто звонил?
— Следователь с барыней да Мухины господа.
— Так отчего же они не вошли?
— А я им сказала, что вы уже спать полягали.
— Зачем же вы так сказали! Ведь вы же знали, что мы гостей ждем и вас за конфетами посылали и кружевную скатерть накрыли!
Молчит. Стоит, глаза опущены, круглая, желтая, совсем репа.
— Зачем же вы это сделали?
— Виновата.
И ничего больше от нее и не добились.
Много раз твердо решали мы ее выгнать, да все боялись, что следующая еще хуже окажется.
Но раз выкинула она штуку совсем уж непростительную. Дело было на масленице, и позвали мы на блины человек пятнадцать. Все было готово, уже начали садиться за стол, как вдруг мне показалось, что маловато будет семги.
Бакалейный магазин был рядом с нами, и я шепнула Устюше.
Устюша живо побежала, а мы принялись за блины. Только, смотрю, подает блины не Устюша, а кухарка.
— Что это значит?
Бегу в кухню.
— А где же Устюша? Чего же она не подает?
— Да она, барыня, подавать не будет. Она в деревню на свадьбу уехала.
— Как на свадьбу? Я ее в лавку послала.
— А она по дороге куму встретила, та ей сказала, что сегодня в деревне свадьбу играют, она сложила узелок да и поехала.
Можете себе представить, как это нас поразило!
Пропадала Устюша ни много ни мало четыре дня. И все это время мы не переставали толковать о ней и возмущаться этой сверхмерной наглостью.
— Я ей скажу, — сдвинув брови, говорил муж. — Я ей скажу: «Устинья, отвечайте категорически...»
— Ну, вот видишь, — прервала я, — «категорически»... Ты совершенно не умеешь говорить с народом! Я сама ей скажу...
— Ты? Разве ты можешь сделать кому-нибудь серьезный выговор? Ты начнешь хныкать, и все пропало. С ней надо говорить резко. Я скажу: «если ваша функция горничной...»
— А я тебе все-таки советую не ввязываться. С ними надо говорить просто: «Устинья, убирайтесь вон». Вот и все тут.
Долго мы спорили, отстаивали каждый свое право выгнать Устюшу...
Я попросила кухарку подыскать поскорее другую горничную.
— Это зачем же?
— Как зачем? Ведь я же Устинью выгоню.
Кухарка загадочно улыбалась.
— Никогда вы ее не выгоните!
— Почему?
— А потому, что она каждую ночь на вас шепчет, и бумагу жгет, и в трубу дует. Вы ее прогнать не можете.
Посмеялась, рассказала мужу.
— Вот темный народ! Какое безобразное суеверие. А она еще вдобавок грамотная.
Велели кухарке непременно найти новую горничную, а сами все толковали, кто из нас лучше сумеет Устинью выгнать.
— Что это значит, что она бумагу жжет и в трубу дует? — допытывалась я.
— Мало ли у темных людей всяких суеверных пережитков средневековья, — объяснял муж. — Меня только удивляет, что Устинья способна на такой вздор.
— А может быть, просто кухарка наклеветала, чтобы выжить ее и какую-нибудь свою куму рекомендовать?
— Может быть, и так. Но дело сейчас не в праздных догадках, а в том, чтобы, не медля ни минуты, выгнать ее. И это я беру на себя.
— Нет, я беру на себя.
— А я убедительно прошу мне не противоречить.
На четвертый день вечером сидели мы с мужем вдвоем за самоваром. Я вязала, как сейчас помню, Валечке рукавички. Муж раскладывал пасьянс. А на столе сидела кошка и жмурилась на молочник со сливками.
Вдруг кошка вскочила, лапы вытянула, шерсть дыбом, прыгнула со стола и брысь в гостиную. И тотчас портьера раздвинулась и вошла в комнату Устюша. Тихая, круглая, желтая, как всегда. Подошла к мужу, поцеловала его в плечо, потом ко мне, поцеловала меня в плечо, потом повернулась к буфету, взяла какие-то чашки и медленно вышла.
— Так что же ты! — шепнула я мужу.
— Да ведь ты же хотела сама... — смущенно бормотал он.
— Господи! ведь ты же кричал, что непременно сам ее выгонишь! Что же теперь делать? Я теперь уж и не знаю, как мне приступить...
Опять вошла Устюша, спокойная, встала у дверей и спросила:
— Можно прачке вчерашний пирог отдать?
— Можно, — ответила я.
— Можно, можно, — поддакнул муж.
Почему он вмешался, раз он никогда в хозяйственные дела не совался и даже, конечно, ни о каком пироге ничего не знал?..
— Ну, как же теперь быть? — совсем растерялась я.
— Может быть, завтра все это выйдет удачнее... — смущенно бормотал муж. — Ты завтра утром просто скажи ей, что ее услуги нам больше не нужны.
— Почему же непременно я? Скажи сам. Ты глава дома.
И прибавила:
— Вот что значит в трубу дуть, не смеешь ее прогнать.
— Не говори глупостей, — сердито оборвал он и вышел из комнаты.
Так это дело и заглохло. Но ненадолго. Скоро разыгралась у нас такая история, о которой, пожалуй, в городке этом до сих пор вспоминают, «не к ночи будь сказано».
Вот не знаю даже — сумею ли рассказать вам эту главную историю нашей жизни в К-ской губернии. Уж очень она странной покажется по нынешним временам.
Так вот, вскоре после Устиньиной отлучки без спросу неожиданно ушла кухарка. Очень загадочно, вдруг пришла за расчетом. Плела какую-то ерунду, что, мол, хочет отдохнуть в деревне, а сама осталась в городе, и все ее видели.
— Почему она ушла? — спросила я у няньки. — Может быть, ей жалованья было мало так сказала бы, мы бы прибавили.
— Жалованья ей было очень даже довольно, — ответила нянька. — Эдакого места ей вовеки не найти. Сама говорила, что у такой барыни живи да живи. Масло, мол, не взвешивает, яиц не считает, совсем, говорит, дура барыня. Жить даже очень хорошо.
— Так отчего же она ушла, если жалованьем была довольна? — спросила я, делая вид, что не расслышала последних слов.
— Ушла потому, что вымели.
— Как — вымели?
Нянька подошла поближе и зашептала:
— Укладка у ней в кухне стояла, под ключом. Прошлую субботу полезла за чистой рубахой, глядь, а в укладке поверх всего веник лежит. Ну, она скорей вещи собрала, да и давай Бог ноги.
— Как же в закрытую укладку веник попал? — удивилась я.
— Вот то-то и оно! Раз уж так ее выметает, так уж тут ждать нечего.
Как я уже говорила, была наша нянька очень старая, и, вероятно, от старости выражение лица у нее было очень мудрое: глаза исподлобья, рот углами вниз. А между тем, дура она была феноменальная. Говорит, бывало, маленькой Валечке:
— Вот не будешь меня слушаться — уйду к деткам Корсаковым, они свою нянечку любят и ждут.
А детки Корсаковы уже сами давно от старости из ума выжили. Один — генерал в отставке, другой за разгул под опеку взят.
И любила нянька всякие страсти.
Как-то рассказывала, что собственными глазами видела водяного.
— Жила я у вашей тетеньки и пошла с Лизанькой утром к речке гулять. Вдруг слышу, ухнуло что-то, будто из пушки выпалило, и вся вода ходуном пошла. Хорошо, что со мной младенчик был, ангельская душенька и меня сохранила, а то бы водяной обязательно в речку утянул.
Я потом спрашивала у тетки, что это за история.
— А просто кучер купался, — сказала тетка.
Много нянька вообще всякой ерунды плела, но на этот раз факт налицо: кухарка ушла из-за веника.
Рассказала я всю эту историю мужу. Тому было досадно, что хорошая кухарка ушла.
— Наверное, это Устиньины фокусы. Давно следует ее выгнать. Я с ней на днях поговорю. Надоела она мне.
— Да и мне тоже, — сказала я.
Так почти и порешили — Устинью гнать.
Только вот ушел как-то муж вечером в клуб, а я сидела у себя в спальной, собираясь спать ложиться. И помню, было у меня что-то на душе беспокойно. От того ли, что ветер в трубе выл — такая весна была скверная с метелями, со снежными заносами — ужас.
Воет ветер, стучит заслонкой — тоска!
И вдруг входит нянька. Лицо мудрое, губы сжаты...
— Господи! Нянюшка! Что случилось?
А она подошла поближе, оглянулась, да и говорит:
— Барыня, а барыня, вы в столовую вечером не заходили?
— Нет, — говорю, — не заходила. А что?
— Ну, так пойдите, посмотрите, что у нас там делается. А я, воля ваша, больше в этом доме не останусь.
Очень удивленная, пошла я за нянькой в столовую, остановилась у дверей. Ничего — комната как комната, над столом лампа горит.