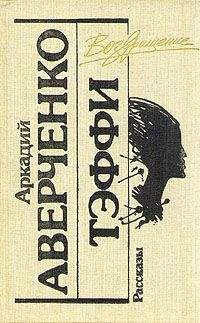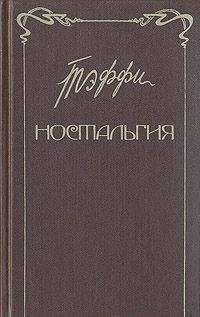— Барыня, а барыня, вы в столовую вечером не заходили?
— Нет, — говорю, — не заходила. А что?
— Ну, так пойдите, посмотрите, что у нас там делается. А я, воля ваша, больше в этом доме не останусь.
Очень удивленная, пошла я за нянькой в столовую, остановилась у дверей. Ничего — комната как комната, над столом лампа горит.
— Да вы на стулья посмотрите — аль не видите? Смотрю — стоят стулья вокруг стола, странно стоят: спинками к столу, сиденьем наружу. Вся дюжина так поставлена.
— А этот, смотрите, тринадцатый, как сюда попал?.. Смотрю — и правда стоит отдельно около узкого края на хозяйском месте какой-то ковровый стулик, совсем мне неизвестный...
— Что же все это значит?
Нянька зловеще молчала.
— Может быть, это Валечка играла?.. — сказала я.
— Это полуторагодовалый ребенок такие тяжелые стулья станет двигать! Выдумали тоже!
Я совсем растерялась. Может быть, теперь смешно покажется, но тогда, уверяю вас, было очень жутко. Комната вдруг показалась совсем незнакомой, и лампа как будто как-то странно горит. И этот тринадцатый стул. Бог знает откуда взявшийся...
Говорю робко:
— Нянюшка! Может быть, лучше стулья на место поставить?
Она даже испугалась:
— Ой, что вы это говорите! Да разве их можно теперь с места сдвинуть! На ем на каждом сам посидел.
— Нянюшка. А зачем же все это сделано?
— А затем, что нам отсюда всем поворот показан.
— Поворот?
— Да, от ворот поворот, вот Бог, а вот порог. Поворачивайте, и вон отсюда!
— Нянюшка, милая, а Валечка что? Валечка спит? — с ужасом спрашиваю я.
— Валечка спит. А с вечера молочка просила, — зловеще ответила нянька и, помолчав, прибавила: — А когда у Корсаковых Юшенька помирал, так все чаю просил.
Тут уж я ждать не стала. Бросилась в переднюю, схватила с вешалки шубу и побежала в клуб за мужем.
Нервы были так напряжены, что, когда из-за забора тявкнула на меня собака, я взвизгнула и пустилась бежать. От страха все дома казались незнакомыми, и я чуть не заблудилась в наших четырех улицах.
Добралась до клуба, вызвали мне мужа.
— У нас в доме не ладно, — лепетала я. — Стулья перевернуты... Тринадцать... Няня говорит, что надо сейчас же съезжать, Валечка просила молока.
Тут я заплакала.
Муж слушал с ужасом и ничего не понимал.
— Подожди минутку, — сказал он наконец. — Я сейчас посоветуюсь с исправником.
— Скорее! — кричу ему вслед. — Дома ребенок один остался.
Вышел ко мне исправник. Я пролепетала ему все, что знала. Муж смущенно посматривал, бормотал ерунду про дамские нервы, но исправник отнесся ко всему очень деловито, покряхтел и заявил, что пойдет сейчас же вместе с нами и выяснит дело на месте.
Исправник наш был старый опытный взяточник, человек приятный, любил пожить и жить давал другим.
Пошли вместе домой. Я, чувствуя себя под двойной защитой супружеской любви и закона, немножко успокоилась. Исправник расспрашивал по дороге о нашей прислуге. Мы отвечали, что кухарка в комнаты не входит, горничная живет уже больше года, а нянька вообще вековечная.
Вошли в дом, открыли дверь в столовую.
Я, хоть и была под двойной защитой, сразу опять поддалась прежнему впечатлению.
Исправник постоял на пороге.
— Все здесь оставлено в неприкосновенности?
— Да, да.
— Мм... Это хорошо, что вы ничего не трогали. Попросите сюда прислугу. По очереди.
Приплелась нянька. Лицо мудрое.
— Ну, старуха, показывай все, что знаешь по этому делу.
К удивлению моему, нянька вдруг от всего отперлась.
— Знать ничего не знаю и ведать не ведаю. А только в столовую вы меня никакой силой войти не заставите.
Исправник посмотрел на нее с уважением и велел позвать следующих.
Пришла сонная кухарка, ответила на все «а мне ни к чому», с ударением на «о», икнула и ушла.
Потом вызвали Устинью.
Исправник приосанился, налетел орлом.
— Эт-то что у вас за безобразия? Зачем ты стулья переворотила?
Устинья стояла, поджав губы, опустив глаза.
— Я ничего не трогала, со стола прибрала и пошла на кухню.
— А тринадцатый стул откуда? Отвечай, шельма!
— Ничего я не брала и ничего не знаю.
— Ну это мы сейчас увидим! Нет ли у вас где-нибудь земли? — обратился он к мужу.
— Мое личное имение в Могилевской губернии, — растерянно отвечал тот.
— Да нет, я не про то... Да вот иди, шельма, сюда. Он схватил Устинью за локоть и потянул к кадке с фикусом.
— Вот. Бери, ешь землю, если не виновата.
Устинья покорно взяла щепотку земли и пожевала.
— Тэ-эк! — одобрил исправник. — Можешь идти.
Устинья спокойно вышла.
— Ну, раз она на своей правде землю ела, значит, она вне подозрения. Тэ-эк. Теперь я вам пришлю городового, пусть у вас в передней переночует. Если чуть что — сейчас же дайте знать в полицию. А теперь разрешите приложиться к ручке и прошу ни о чем не беспокоиться. И не в таких переделках бывали.
Ушел.
Остались мы вдвоем и не знаем, что делать. Зашли в детскую. Валечка спит, Нянька лежит на спине и точно муху с губы сдувает — значит, тоже спит.
— Хочешь, заглянем в столовую? — говорю я.
— К чему? Что за смысл?
Вижу, не хочется ему.
Пошли спать. Света, однако, не гасили.
Я уже задремала...
— Не кажется ли тебе, что кто-то по столовой ходит? — спрашивает шепотом муж.
— Не-не с-слышу! — шепчу я.
Он сидит на постели, весь насторожился. И вдруг под окном что-то стукнуло.
— Кто там? — с ужасом, с визгом завопил муж. — Кто там? Я стрелять буду!
В ответ опять что-то стукнуло...
— Молчи, ради Бога! — говорит муж. — Так можно совсем голову потерять.
Он встает, гасит лампу, тихо подкрадывается к окну, отодвигает занавеску, смотрит.
— Там кто-то стоит! — шепчет он прерывающимся голосом.
И вдруг дверь открылась и что-то косматое заглянуло в комнату.
Я с криком вскочила.
— Это я! Это я! — шамкает нянька. — Круг дома ходит. Сам ходит. Теперь нам конец.
— Кто? Зачем?
— Видно, ужинать-то его позвали на ковровом-то стуле, а дверь я с молитвой закрыла, ему и не войтить!
— Тише, тише! — шепнул муж. — Звонят!
Действительно, кто-то тихонько позвонил. И еще раз.
Мы тихо пошли по коридору.
Опять звонок!..
— Кто там? — крикнул муж. — Я стрелять буду!
— Bay, вау... — отвечают за дверью, не разобрать что.
Потом разобрали «благородие», «исправник». Слова успокоительные.
Муж приоткрыл дверь.
Городовой!
— Господин исправник прислали дежурить.
— Чего же ты кругом дома ходишь, болван!
— Да не смел звонком беспокоить. Постучал в одно окошечко, а там старушка меня закрещивать начала. Постучал в другое, а там какая-то баба визжит и стрелять в меня обещает, ну я и решил позвонить.
— Входи, входи, голубчик, — сказал муж. — Дайте ему водки, пусть согреется.
Ему, кажется, очень неприятно было, что этот дурень принял его голос за бабий визг.
Утром муж разбудил меня и говорит:
— Конечно, все это ерунда, все эти нянькины «отвороты», но раз ты так нервничаешь, то лучше всего собирай скорее вещи и поезжай с няней и Валей к твоей маме. Ты ведь давно хотела. Прислугу я отпущу и поеду погостить к предводителю — он еще вчера в клубе умолял. А к тому времени освободится докторова квартира — гораздо лучше этой — туда и переедем. Между прочим, ковровый стулик из передней, он там в углу стоял, мы о нем и забыли. Но это, конечно, дела не меняет, и раз тебе непременно хочется ехать к маме, так и поезжай.
Сам он хотя и не нервничал, но все что-то топтался на одном месте и кусал усы.
— Я вовсе не нервничаю, — ответила я. — Я не какая-нибудь суеверная баба, я интеллигентная женщина. Но так как няня ни за что не хочет здесь оставаться, а я ею очень дорожу, то мне ничего не остается, как уехать. А дверь в столовую пока что лучше бы запереть... Я, конечно, не боюсь... но...
— Я ее еще вчера на ключ запер, — ответил муж. Хотел еще что-то прибавить, покраснел и замолчал.
Теперь, когда я все это вспоминаю, то думаю, что, вероятно, Устинья, прибирая вечером столовую, забыла поставить стулья на место, а когда увидела, что из этого получилась целая история с вмешательством полиции, конечно, испугалась и не посмела признаться.
Однако, если бы я была суеверной, то, пожалуй, подумала бы: все-таки глупо это, а тем не менее ведь «поворотило» же нас из этого дома, поворотило и выгнало. Как там ни посмеивайся, а ведь вышло-то не по нашему, по разумному и интеллигентному, а по темному нянькиному толкованию...
Квартира наша целый год пустовала, никто в ней жить не соглашался. Потом сняли ее под почтовую контору.
От железнодорожной станции до города ехать надо было ровно тридцать верст и все лесами, лесами, да болотами, через дикие речки по деревянным пляшущим мостикам, глушь, даль, ужас.