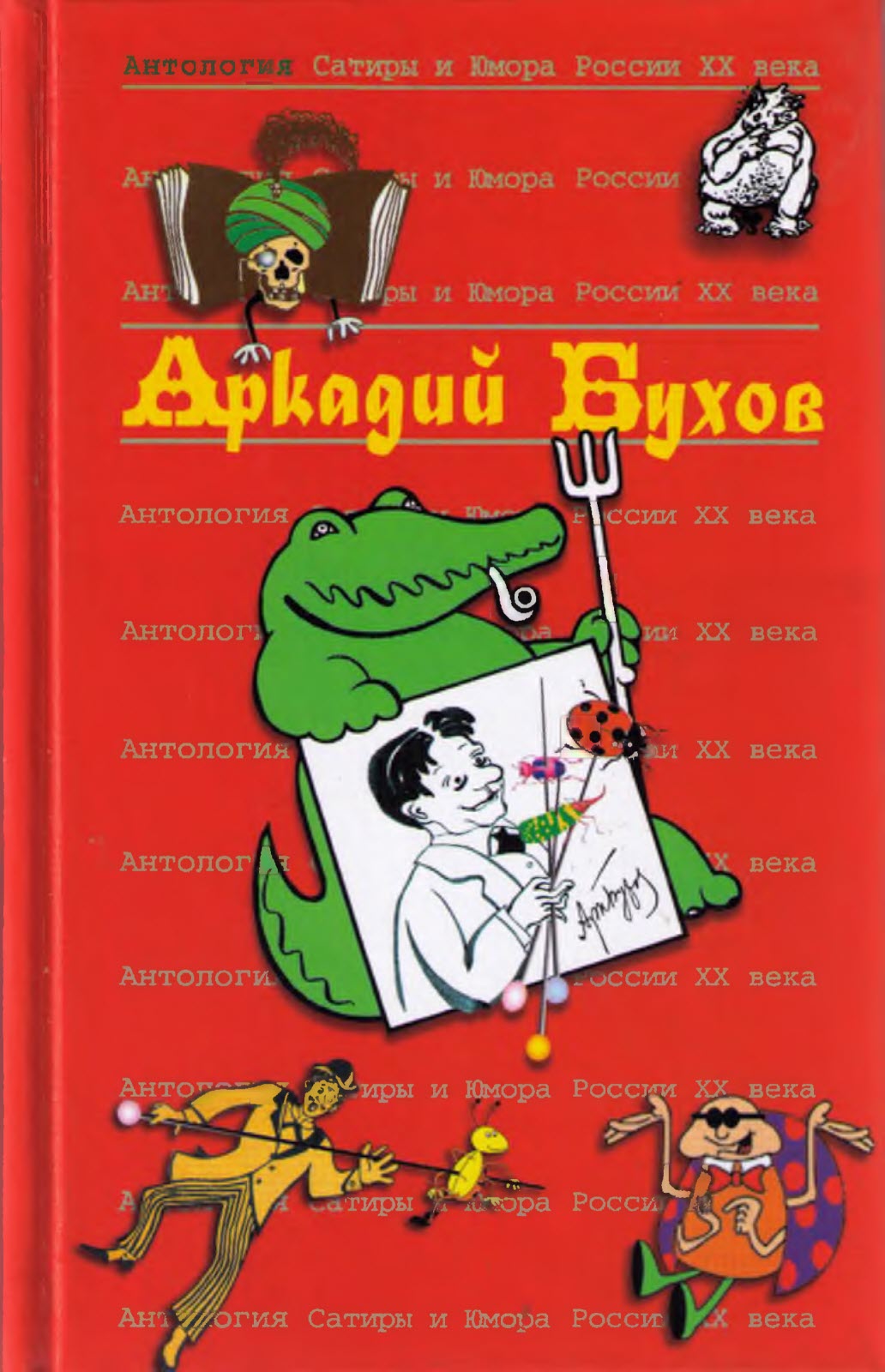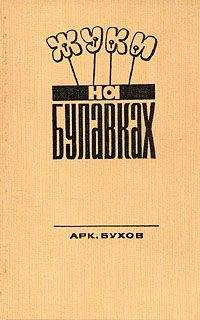вежливых, чтобы послать сюда…
— Да меня никто и не посылал, — просто сказал Коля, — я сам пришел. Николай Александрович Вытридов не посылается, он приходит сам.
— Оставьте меня, — гневно сказала Паева, — я не могу дать интервью…
— И не надо, — кинул Коля, — если еще всякая балерина ломаться будет…
— Идите вон, — крикнула Паева, — нахал…
— Сударыня, — строго произнес Вытридов, поднимаясь с кресла, — я слишком американец, для того чтобы бить женщину, но предупреждаю вас, что моя газета сумеет такое о вас написать, что вам не поздоровится…
— Вон, вон, вон, — исступленно кричала балерина, — шантажист, мерзавец… Настя, позовите швейцара… швейцара, швейцара…
— Ты слышала? — строго спросил Вытридов, надевая пальто. — Слышала, прислуга? Когда я приду описывать твою барыню за ее скандал, тебе же отвечать придется. Открой двери…
IV
— Войдите, — и я поднял голову от газеты.
— Ну…
— Дура-баба. — холодно произнес Коля, войдя и снова постукивая палкой о стол. — Паева-то ваша. Ей бы с мясниками разговаривать, а не с писателями. Ничего не устроилось. Сидите без интервью.
— Вытридов… Послушайте, вы… Кто вас просил ехать к Паевой?
— Никто не просил… Если этак дожидаться, пока вы сообразите, — без хлеба насидишься. Есть еще поручение?..
— Никакого поручения. Вытридов. Слышите, вы. Я не хочу из-за вас терпеть неприятности…
— А что, по телефону ругалась? — засмеялся Коля. — Вот тоже, скажу я вам, старая ведьма… В морщинах, напудренная…
— Мне некогда, Вытридов, до свидания. Прощайте.
— До скорого, — сказал он, — крепкие очень курите… Послабее у вас нет?.. Ну. ладно… Копайтесь. Я вам министра одного достану, он у меня не вырвется. Я умею брать за горло… Пока…
В соседней комнате кто-то горячо спорил, и через несколько минут я услышал Колин голос.
— Затхлые вы все, — убеждал он кого-то, — пресные вы все. В вас горения нет. Инициативы нет. В наше время нельзя не быть американцем… А вы что?.. Эх вы!..
На другой день мне пришлось поехать в одно из министерств для личных объяснений.
I
Я страшно не люблю отупевших, нелюбознательных людей, для которых все, выходящее из тесного круга их профессиональных интересов, тупо, мертво и ненужно, и слушать около двух часов хорошо продуманный, небездоказательный рассказ о том, что если бы местное мясо перевезти на гамбургскую биржу, то будет известное колебание цен, я не мог.
Поэтому-то я встал и вместо задуманных двенадцати часов, которые свободно можно было растянуть до двух, ушел в восемь часов вечера, полный презрения к этому черствому, мучительно-спокойному человеку, которого слепой случай, и ничто другое, натолкнул сделаться отцом Нины.
Отправляясь к Удртиным, я обычно распределял время так:
Разговор в передней (полушепотом) с Ниной о том, как ловким движением проскользнуть из столовой в ее комнату.
Разговор за чаем с папой о поднятии нефтяной промышленности в Гренландии.
Легкое припоминание папы вчерашних биржевых цен.
Вынужденный спор о том, нужно ли уходить домой после чая сразу или оставаться.
Мамин рассказ о разбитой сегодня миске и об общем огрубении прислуги.
И все же, несмотря на такое явно несправедливое распределение моего рабочего времени у Улитиных, в рубрику пребывания с Ниной вдвоем я мог вставить свободно два или три часа, изредка прерываемых приходом дорогого папы, с рассказом о том, что узкоколейные дороги, видимо, переживают сильный кризис и что его знакомый инженер совершенно тождественного с ним мнения.
Иногда предполагаемый распорядок круто менялся, и, вместо того чтобы отпустить нас с Ниной отдышаться от очередного рассказа о неудачных операциях сибирского банка, папа садился поудобнее в кресло и читал нам вслух, сопровождая ценными и не без известной насмешливости замечаниями отчет местного общества борьбы с бугорчаткой.
Нина с трагической улыбкой кивала в такт чтецу головой и бессильно смахивала крупные набегающие слезы. Я смотрел в окно на заснувшего извозчика с таким бешеным вниманием, как будто бы и он. и его лошадь были теми только что найденными существами, с которыми я хотел навеки соединить свою одинокую, полную разочарований жизнь.
Я понимал, что дальше идти было некуда. Оставалось только одно — чтобы Нина совсем уходила из дому, заметив мое приближение, а я сам настолько увлекся бы прелестями доброго папы как рассказчика и популяризатора экономических доктрин, что тут же очертя голову сделал ему предложение.
Поэтому-то я и пошел к Лухину.
— Видишь ли, — задумчиво произнес Лухин, — я, собственно, не знаю, чем я тебе здесь могу быть полезен. Если ты хочешь предложить убрать этого человека, я не согласился бы. Ты прекрасно знаешь, что моим очередным делам и литературным связям сильно помешала бы бессрочная каторга… Не меньше помешала бы и заранее обусловленная сроком, если бы я просто поджег дом Улитиных и заставил бы старика пережить настолько сильное ощущение, чтобы он или онемел, или просто настолько обгорел, что твои взаимоотношения с ним свелись бы исключительно к переговорам с бюро похоронных процессий…
— Делай что знаешь, — уныло простонал я, — только помни… Пойдем со мной к Улитиным. Я хоть один вечер поговорю с Ниной, а ты в то время будешь говорить с папой… Говори о чем хочешь. Захвати сборник тригонометрических задач на конкурс, заучи наизусть несколько технических названий — только займи ты этого зверя… Наговори обо мне кучу лестных вещей, и я тебя озолочу…
— Озолоти, пожалуй… Мне все равно, — равнодушно заметил Лухин, — только как же тебя расхваливать…
— Ну, как, как… Конечно, не настаивай на том, что я могу приподнять одной рукой восемь пудов, что из меня мог бы выйти превосходный станционный жандарм или что в моем лице русские фальшивомонетчики потеряли достойного теоретика… Что хочешь говори, только будь этим, как его… громоотводом…
Лухину, по-видимому, сильно понравилась эта незатейливая роль, и он скоро согласился:
— Идем. Буду. Весь заряд электричества приму сюда. — Он показал на то место, между грудью и желудком, куда, по его мнению, всякий добросовестный громоотвод прячет получаемое им электричество.
Когда мы проходили мимо одного знакомого ресторана по пути к Улитиным, Лухин толкнул меня в плечо и подмигнул на вход:
— Ну?.. Как это говорится: громоотвод плавать любит…
— В первый раз, — скромно возразил я, — слышу о таких свойствах этого незатейливого прибора. Если уж очень хочешь, зайдем.
Плавал громоотвод с искусством опытнейшего спортсмена — До десяти часов вечера.
II
В начале одиннадцатого, когда папа уже собирался начать очередной вечерний рассказ о том. что он видел сегодня во время послеобеденного сна, мы пошли к Улитиным.
Только что представленный, Лухин сразу почувствовал себя душой общества, человеком, находящимся в дружеском семейном кругу.
— А… папа! Знаменитый