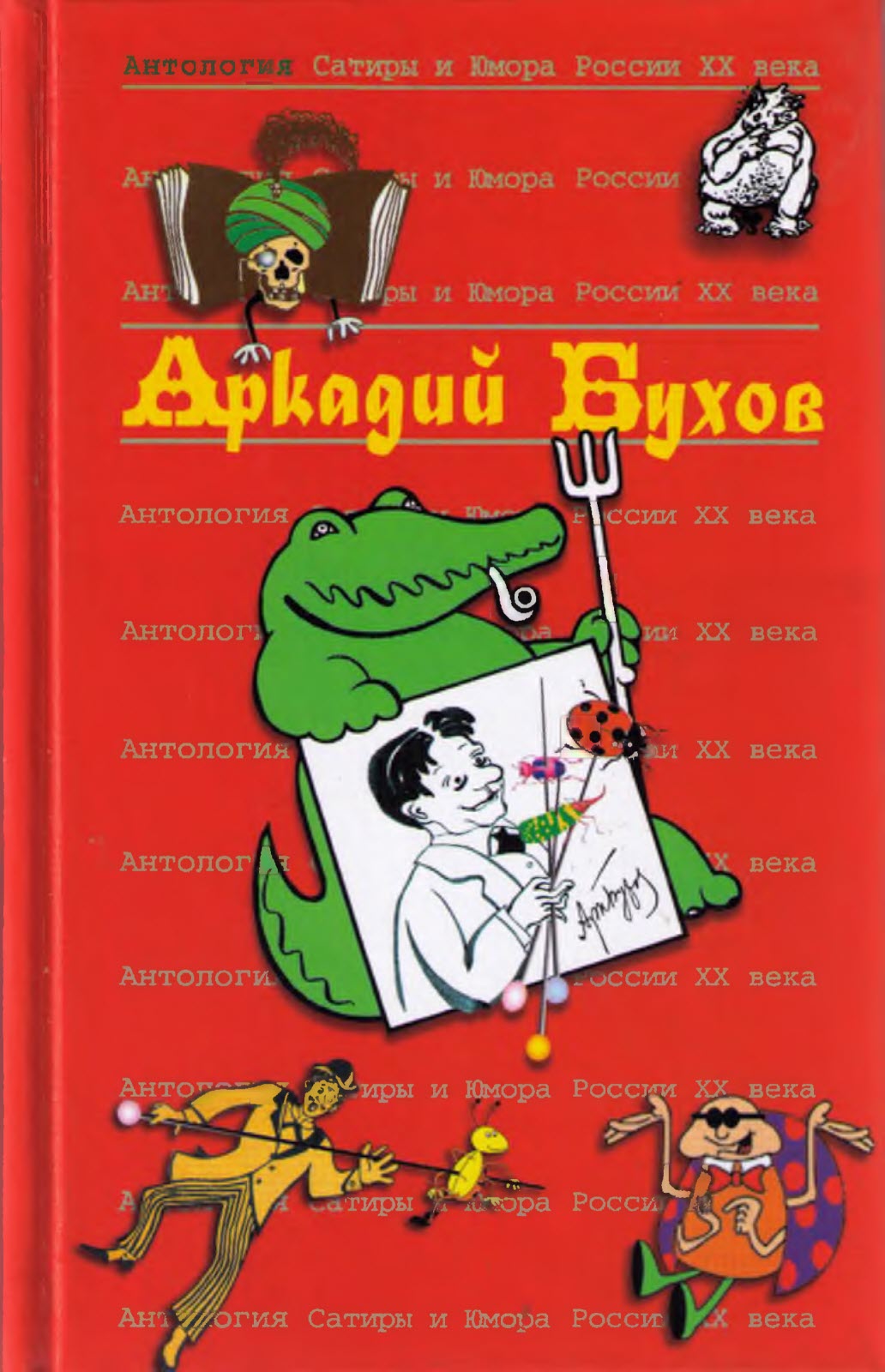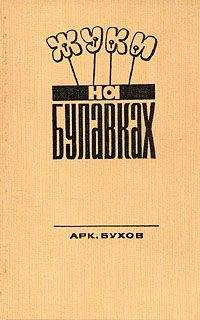папа! — весело закричал он, игриво похлопав Улитина по животу. — Веселый рассказчик! Ну-ка, а расскажите об аргентинском экспорте сала? А? Не знаете?.. Здорово…
И, весело икнув от неприлично застрявшей в горле ресторанной осетрины, Лухин продолжал смотреть на моего смущенного врага с доброй, но слегка вызывающей улыбкой.
— А Мишка, — и он ткнул меня пальцем, — все рассказывал о вас… Сядет, говорит, за стол и рассказывает… Часа три битых говорит… И политика, и малитика, и история-кистория…
У меня беспомощно опустились руки. Папа Улитин сумрачно рассматривал обои, мало поддаваясь жизнерадостному настроению Лухина.
Почувствовав себя окончательно хозяином положения, тот шагнул, прибегая к поддержке незатейливой улитинской мебели, и обратился к Нине:
— Вот она… Богиня моего друга… Чай, хочется пойти поворковать друг с другом… Обняться, поцеловаться, сладким словом обмолвиться… Смотрит на нас и думает: посидели бы вы здесь, старые дураки, поговорили бы друг с другом, а мы бы уж нашли что делать… Старые, мол, вы идиоты…
— Извините, — сухо произнес обескураженный папа, — мне кажется…
— Да чего уж там кажется, — весело махнул рукой Лухин, — почему кажется… Старые мы с вами для них… Никудышные ослы.
— Мне думается, что ты немного, — попробовал я робко втереться в лухинский монолог, — что ты…
— Ну что — что ты, что я, что мы… — презрительно-ласково кинул Лухин, — тоже нюня… Другой бы взял девушку за руку, отвел бы в комнату, переговорил, что надо… А ты что олухом стоишь… Жених… Мы уж здесь папашкой займемся…
— Виноват, — холодно произнес Улитин, — кто здесь папашка, кто жених… Видите ли…
— Как — кто папашка, — фыркнул, затрясись от смеха, Лухин, — да разве кто сомневался… Или был грешок. — И он весело кивнул на одинокую маму, застрявшую в портьере.
— Это что же-с, — вдруг сорвался с места папа, — это вы кого же привели сюда… Это…
— Сам пришел, — деловито заметил Лухин, — дай, думаю, выручу приятеля, сам бывал в таких положениях: придешь, а папочка с мамочкой слова сказать не дадут…
— Лухин, — жалобно простонал я, — Лухин…
— Ну что — Лухин, Лухин, — огрызнулся Лухин и вдруг, взглянув на меня с непонятным чувством возмущения, обратился к Нине. — То есть это, я вам скажу, черт знает что… Стоит — слюни распустил. В кабаке — душа нараспашку: чуть что — стаканы бить… Женщины из комнаты не выходят, а здесь тюря такая… Распустился…
Ниночка густо покраснела и, упав на стул, заплакала горячо и надолго. Папа потянулся к звонку…
Когда мы вышли, отнесясь презрительно к устаревшему институту прощания, Лухин уже на улице вдруг обнял меня в приливе какого-то радостного сознания хорошо сделанного дела и. засмеявшись, спросил:
— А ну, видел, как надо держаться с этими людьми? Сознайся‘сам, будет он теперь с тобой разговаривать по три часа подряд?
— Не будет, — глухо подтвердил я, чувствуя лухинскую правоту, — теперь не будет…
— То-то… А ты — громоотвод, громоотвод, — весело проговорил Лухин, — вот, брат, как надо делать… Да ты. кажется, сердишься? Вот чудак…
Человек, попавший под поезд, никогда не будет разбираться, в каком году окрашены вагоны; когда судьба сталкивает вас с женщиной — поздно смотреть, какая она. Так несчастливцы иногда рассматривают билет, только что вышедший в тираж, бесцельно стараясь запомнить цифру номера — разве это поможет? Любовь так же стихийна, как кирпич, упавший с постройки: напрасно стали бы мы избегать построек, чтобы не нарваться на такой кирпич. Жизнь устроена так, что масса достойных уважения людей целую жизнь трется около воздвигаемых домов и на голову их не падает ни одной пылинки, в то время как на бесчестных, мелких людишек судьба, не зная, кому она расточает свои дары, обсыпает целые возы камней и известки.
Нельзя избежать любви. И худо, когда на вашем пути встает женщина, душа которой мучительно не похожа на вашу.
— Расскажи мне голубую сказку, — попросила Шура, пристраивая голову на моем плече, — расскажи, милый.
— Голубую?.. Тебе непременно… голубую? — нерешительно переспросил я, перебирая в уме все, что я смог бы вместить в это понятие.
— Голубую. Непременно голубую, — настаивала Шура, — ну, расскажи. Не хочешь? Значит, ты не любишь меня?.. Не любишь?..
Мучительно тяжело рассказывать сказки, когда не только искренне презираешь этот вид творчества, приспособленный для людей не старше четырехлетнего возраста, но чувствуешь себя поставленным в необходимость обманывать любимую женщину рассказами о каких-то чертях, да еще чтобы все это было голубое.
— Хочешь, лучше расскажу тебе армянский анекдот? — несмело предложил я. — Приходит армянин в лавку и говорит: «Карапет, а Карапет…»
— Расскажи сказку, — по-ребячьи настаивала Шура, — надоела земля. Хочется отдохнуть на сказке…
— Хорошо, — уныло вздыхаю я, — ну, слушай. Жил-был один… того… король… Большой такой. В избушке на курьих ножках. А у него был леший. Ручищи — во! Морда — во!..
— Оставь меня, — холодно сказала Шура, приподымаясь. — Ты не хочешь порадовать любимую женщину голубой сказкой… Разве это сказка?..
— А что же это — научная статья, что ли? — вскипел я. — Я в няньках не служил. Хочешь, куплю завтра сказок — читай их.
— Ты не чуткий, — печально сказала она. — Ты самец. Ты не можешь понять женской души. Не чуткий, не чуткий…
— Ну, хорошо, — обиженно возразил я и, не зная, чем мотивировать свой недостаток, сухо добавил: — А издеваться над собой не позволю. Да…
Через несколько минут мы Помирились, сойдясь на том, что я принесу теплый платок и расскажу о своем первом увлечении, но все же я почувствовал, что между нами раскрылась громадная пропасть, на одном конце которой проникновенная, нежная и грустная душа женщины, а на другой моя — нечуткая, развязная, мускулистая натура…
* * *
— Я ненавижу процесс еды. В нем что-то животное. Низменное, — говорила обычно Шура, садясь обедать. — Человек в это время походит на зверя. Отталкивает от себя.
— Ты… завтракала сегодня? — робко спрашивал я. — Там со вчерашнего дня осталось две телячьи котлеты?..
— Я съела их, — нехотя отвечала Шура. — Человек, который прожевывает, смакуя, пищу, не может понять Метерлинка.
Я чувствовал, что после шестичасовой голодной рабочей сутолоки Метерлинк для меня в эту минуту был бы слишком непитательной пищей, и от этого сознания становилось непонятно стыдно.
— Хочешь мяса? — испытующе спрашивала Шура. — Знаешь, вегетарианцы правы, говоря, что современный человек, рвущий зубами мясо, напоминает дикого скифа…
— Конечно, скифа, — неуверенно соглашался я. — Положи мне вот тот кусок, с жиром…
Она брезгливо пододвинула мне мясо. Мое поведение по отношению к нему было настолько недвусмысленно, что она через пять минут бросала ложку и злобно цедила сквозь зубы:
— Знаешь… Мне кажется,