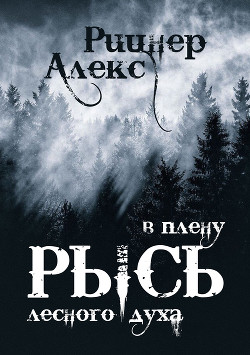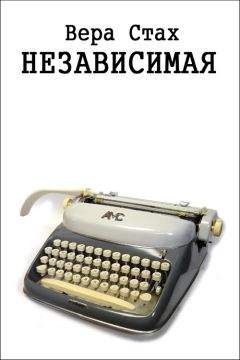Стах стоит по самое горло в книгах по рукоделию. Мимо него снуют девушки. Вот две хохочут как-то оглушительно, почти над ухом. Стах отклоняется от них бессознательно.
С обложки книги на него смотрит бумажный журавль. О. Стах знает, как скоротать еще одно воскресенье.
V
Когда через ночь снится, как тонет Тим, сложно сочувствовать влюбленным, выпившим яду. Стах глотает наутро и яд, и слезы. Ничего, живет. Жить сложнее, чем умереть. После смерти отчаяния нет.
Под конец апреля он избавляется от заданной повести, как от чего-то печально-утомительнейшего на свете, и с облегчением сдает в библиотеку.
Софья не спешит принять, она очень занята собственным текстом, читает вслух:
— «Слюной тоски исходит сердце…»
— Что?..
— Рембо. Вот послушай…
Стах вздыхает. Конечно, перемена же резиновая. О несчастной любви он еще не начитался.
Но Рембо — не о несчастной любви. Рембо — о тоске. Царапает слух скрипом корабля, пахнет тиной и спиртом, злится, болеет, просит свободы, горчит.
Софья заканчивает «Украденное сердце». Стах не поддается на ее уловки, просит:
— Можно Шекспира вернуть?
— Ты знаешь, что в девятнадцать лет Рембо дал поэтический обет молчания? Друзьям сказал, что, если бы не бросил писать, сошел бы с ума.
Стах не понимает: она к чему-то или просто так?..
Софья протягивает ему сборник. С переплета на Стаха смотрит мальчишка, едва ли старше, чем он сам. Софья склоняет набок голову и спрашивает у него:
— Тело или душа?
Стах усмехается, и щурится обличительно, и спрашивает у нее лукаво:
— Во что вы больше верите?
— А ты?
Стах ничего не отвечает. Она вычеркивает запись, тянет книгу, просит:
— Распишись.
VI
Только Стах отвлекся от шекспировской трагедии, как ему в биографии пишут, что у Рембо был Верлен, который прострелил ему запястье…
Стах вздыхает, кладет книгу себе на грудь — плашмя, страницами. Очень колотится — под всеми этими буквами. Он думает перестать знакомиться с Рембо до того, как начать.
Потом любопытство берет верх. Стах проходится взглядом по содержанию. Выбирает наугад, читает, не дочитывает. Текст не идет уже который месяц, стихи — и подавно. Застревают в горле. Спотыкаются об Тима.
А потом, среди строк, Стах Тима находит. Видит его, замерев от напряжения и острого приступа волнения и боли — и читает, читает взахлеб, как давно не читал.
VII
Вообще-то, Стах не очень знает, появляется ли Тим. Иногда, пересекаясь с Маришкой, понимает: для нее появляется, для Соколова и Стаха — нет. Но можно рискнуть… и положить книгу с запиской на прежнее место, под стеллаж, в «лаксинском углу».
Я нашел тебя в литературе.
Ты одушевленный. А.
Стах проверяет наличие книги несколько раз в день. На третий она пропадает.
VIII
Появляется книга. В ней бумажный кораблик. С крылом мотылька. Стах разворачивает кораблик — немой, без единой строки. Кладет обратно хрупкое крыло. Пишет новую записку.
Рембо написал «Пьяный корабль» в семнадцать. До семнадцати ярости в нем было больше, чем печали. До семнадцати он был похож на меня больше, чем на тебя. Может, это стороны одной медали? Ярость и печаль… А.
Тим забирает записку. Оставляя книгу. Хоть что-то… Уже что-то. Стах пишет снова.
Не припомню момента, когда я «печаль» произносил или писал всерьез. Это то, что мне всю жизнь запрещают. Произносить. И чувствовать. Что-то высокое. Против чего-то приземленного. Но фишка в том, что еще ни разу взаправду запретить не получалось. Это нельзя запретить. Развидеть — нельзя. Если один раз задело, будет задевать и после. А
Очередная записка — пропадает. Может, в ящик стола. Может, в тетрадь. Где хранит Тим чужие записки? Стах — в памяти. Они живут в нем, чтобы собой отравлять.
Мне не хватает наших разговоров. А.
Зачем тебе разбитый корабль? Т.
Арабский почерк похож на оголенный провод. Он бьется током. На него отзывается каждая клетка.
Море его целовало в глаза. А.
Что может быть больнее?
Кажется, корабль, утонув, не умирает совсем, пока волна не сотрет его в труху, и море щиплет все его тело, как будто это тело — одна сплошная рана. Т.
Я знаю.
Мне жаль. А.
IX
— Рыжий, — зовет Софья. — Ты в курсе, что какая-то девочка таскает твои записки?
— Не понял.
— Темненькая такая, бойкая. Дефилирует тут, стучит каблуками, чавкает жвачкой. Она вообще уже месяц ходит. Мне кажется, она выклевала твоего Тимофея с места…
Она не выклевала. Она заставила его ответить… И только Стах думает, что хуже не будет, как Софья ему говорит:
— Распишешься за Рембо?
— Это она принесла?
— Нет. Твой Тимофей.
Чтобы не видеться. Проще сдать… «Хватит писать мне», — заочно. Стах усмехается и ставит размашистую подпись недрогнувшей рукой.
С этим придется справиться. Стах как-то справляется — уже четвертую неделю тишины.
X
В мае солнце начало показывать голову. Стах понял не по солнцу, а по своему лицу, когда мать сказала, что «посмотри же на себя, так похудел». Он не понял, где похудел. Зато веснушки проступили явственнее — их стало больше.
Последний месяц. Тим все еще в гимназии. Несмотря ни на что. Соколов пообещал, что сделает все сам, но у Стаха ощущения, что ничего не происходит.
Они должны были уехать. Эта мысль не дает оправиться.
XI
Соколов сидит загруженней обычного, отрастил щетину, нацепил уставший ехидный взгляд. Больше шутит — и задиристо. Вызывает к доске неуспевающих, затыкает отличников.
В перемену между его уроками, когда ребята, переглядываясь, выходят, они не знают, выдыхать или наоборот — молиться о помиловании перед новой фишкой Соколова — устным опросом вместо письменной контрольной. Одно дело, когда ты можешь вооружиться шпаргалкой, а другое дело — называть формулы, глядя ему в глаза. Он достиг новых преподавательских высот.
— Лофицкий? — зовет Соколов. — Ты у меня к десятому-то классу не зачахнешь совсем? Сидишь потухший, ни во что не вникаешь. Я, конечно, все понимаю. Но переживаю, как бы ты не был для общества потерян, особенно научного…
— Я для общества уже потерян, — решает. — Если в науке не пригожусь, можно сразу хоронить.
Соколов серьезнеет.
— Не общаетесь с Лаксиным?
— Давайте лучше про физику, — просит Стах.
Соколов вздыхает. Смотрит на него, думает. Потом говорит:
— Что ж… про физику — так про физику.
Он начинает суетиться, хлопать ящиками стола, перебирать бумажки: что-то вытаскивает, что-то просматривает, никак не успокоится. Звенит звонок, и класс шумит стульями, рассаживаясь по местам. Соколов все добавляет листы. Ровняет набранную стопку. Приподнявшись, водружает Стаху на парту.
— Это чего?..
— Это тебе от тяжких дум. Сразу полегчает. К понедельнику не сдашь — двойку за четверть влеплю. Без шуток, Лофицкий. Рискнешь не сделать — будешь ко мне ходить все лето, исправлять.
Стах бегло просматривает задания. Его выдергивает из депрессивного настроения, он округляет глаза. Он не уверен, что это возможно чисто физически — к понедельнику закончить: сегодня четверг.
— Андрей Васильевич, за что?..
— Это лекарство, Лофицкий. Потом еще спасибо скажешь.
— Вы издеваетесь?..
— Двойку поставлю, — напоминает. — За четверть.
Стах осознает масштабы учебного завала с открытым ртом. Соколов, уже радостный, поднимается с места, потирает руки, оглядывает мучеников, глумится:
— Ну что, детки? Устный опрос?
XII
Весь первый день в голове у Стаха крутится вместо всех тяжелых раздумий месяца, вместо Тима: «Вот скотина».
Уже девять часов. Он отвлекался больше, чем на пять минут, за этот вечер только раз, когда позвали к ужину. А не позвали бы — и не вспомнил.
Мать заходит пожелать ему спокойной ночи и изумляется:
— Аристаша, что же ты?.. так долго с уроками?
— Соколов ско… — осекается. — Назадавал.
Опрометчиво показывает большую стопку и тоненькую, какую сумел разгрести. Мать косится на бланки, тесты, самостоятельные, контрольные… кажется, по всем темам, какие только есть. Ничего не понимает.