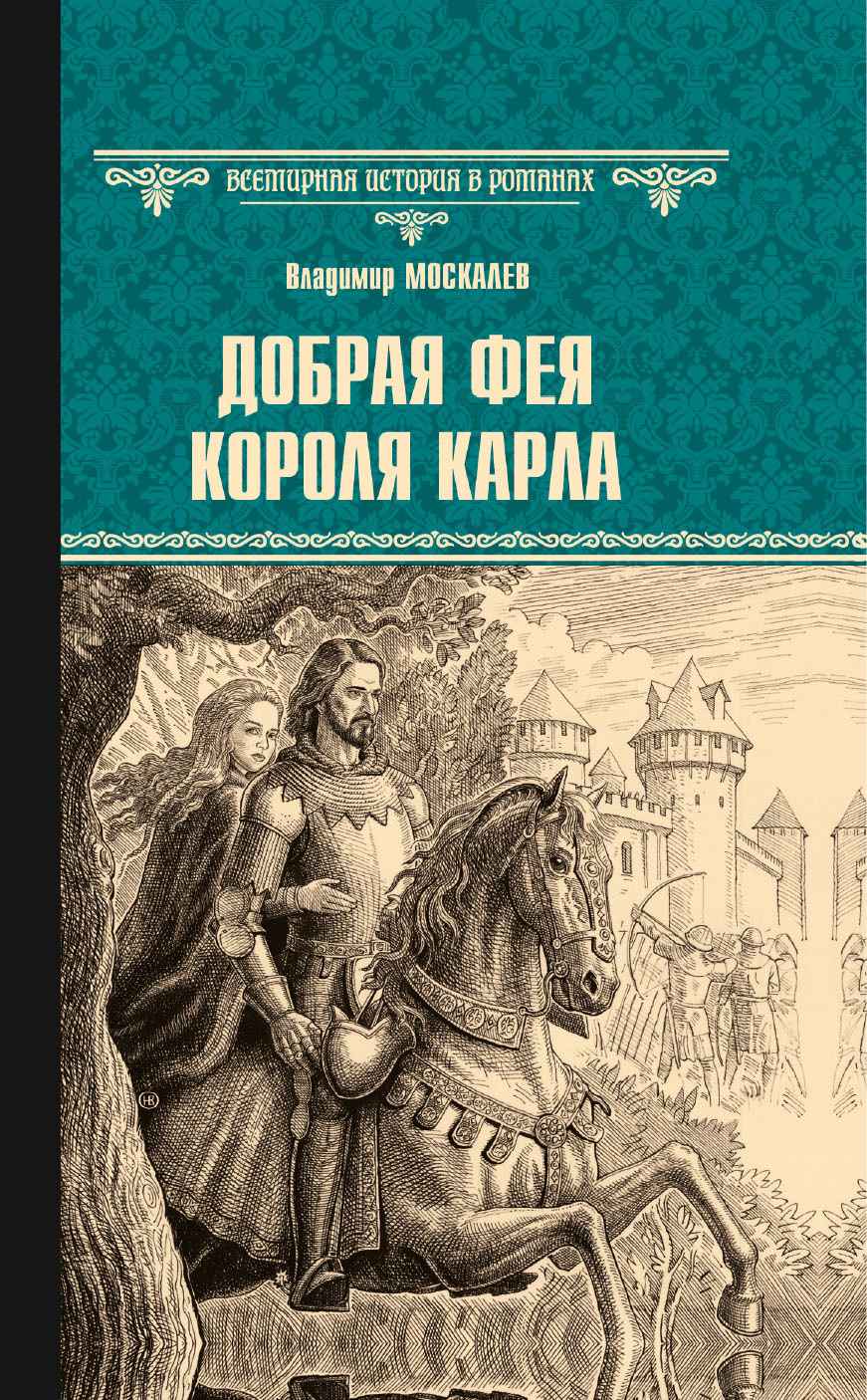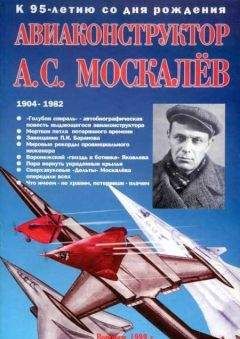которого не спасало уже ничто. Он буквально ожил, стал здоров, весел, а Содон запретил ему лечиться и уложил его в могилу. А теперь ты хочешь отдать в руки этого палача и эту женщину?
– Так это, стало быть, та, что была на рынке?.. – произнесла Жанна, пытаясь понять.
– Не было никакого рынка, была та, что жила у меня в замке. И это она помирила нас, из врагов сделав подругами. Она, понимаешь, и никто другой!
Жанна молчала, с удивлением глядя на графиню. Казалось, она ждала чего-то еще, какого-то последнего решающего аргумента, которого недоставало к сказанному. А Анна продолжала приводить новые факты, взывающие к здравомыслию, к справедливости:
– Мало того, это она, подвергая свою жизнь опасности, отправилась за орлиным камнем и привезла тебе его. Что же, и этого недостаточно? Желаешь услышать еще? Так знай же… Я не хотела, но вынуждена это сказать, дабы побудить тебя к решительным действиям против монаха, возмечтавшего убить ту, что сделала тебя королевой!
– Меня… королевой?.. – пролепетала Жанна, бледнея и в ужасе пятясь, словно услышала нечто такое, что выходило за рамки благоразумия, что не укладывалось у нее в голове, разрушая некий неколебимый постулат. – Святой Боже! Анна, что ты говоришь? Одумайся! При чем здесь эта горожанка? Ведь умер отец Карла, мой свекор… умер от болезни, в тюрьме, в Англии…
– Он умер уже здесь, Жанна, и это я убила его, но не смогла бы этого сделать, не будь той, о ком я говорю. Король умер не от болезни, его отравили, и эту отраву он увез с собой в Англию. Понятно тебе теперь? Если бы не эта женщина, посланная Франции богиней судьбы, твой муж не стал бы королем, ты оставалась бы дофиной, а на троне сидел бы в лучшем случае Жан Второй, а в худшем – Карл Наваррский или Эдуард Плантагенет!
У Жанны подкосились ноги. Вытянув руки вперед, она шагнула, нащупала спинку кресла и, все это время не сводя глаз с графини, упала в него, шепча:
– Боже мой!.. Боже мой!..
– А теперь слушай меня внимательно, сейчас я расскажу тебе все, – подошла к ней ближе Анна.
– Добрая дама, а мне что делать? – подал голос шут и встал по левую сторону от кресла. – Ведь я уже слышал эту историю.
Анна взяла его за руку.
– Я знаю, Тевенен. Но ты умен, к тому же честен, и я считаю тебя своим другом. Уверена, мой друг похоронит эту тайну в своем сердце. А потому ты можешь остаться.
Нагнувшись, она поцеловала Тевенена. Шут хлюпнул носом. В уголках его глаз стояли слезы. Он утер их тыльной стороной ладоней, и графиня начала свой рассказ. Он не был длинным, ибо не содержал подробностей: и без того становилось ясным все, что произошло. В конце она прибавила:
– А теперь, Жанна, поклянись, что тайна эта умрет вместе с тобой. Супруг не должен об этом знать: все же покойный король был его отцом.
– Клянусь! – твердо ответила королева.
– И я… промолвил шут. – Но я уже поклялся твоему брату, благородная дама.
– Гастон сказал мне.
– Но что же это выходит, Анна? – всплеснула руками королева. – Мне предстоит подписать смертный приговор женщине, которая возложила корону на голову моего мужа и на мою?..
– Она дала Франции умного короля взамен глупого, и тебе надлежит спасти ее, Жанна!
– Спасти ее? Вырвать из лап этого инквизитора? Но как его найти? Я немедленно прикажу его арестовать!
– У нас ничего не выйдет: инквизиция подчиняется только папе.
– Я тотчас отправлю гонца в Авиньон!
– Тем временем Содон будет истязать жертву, добиваясь от нее признаний в ереси и колдовстве. Выдержит ли она? Боюсь, ее надолго не хватит.
– Но что же делать? Как нам воспрепятствовать?.. Надо категорически ему запретить!
– Сначала его необходимо разыскать. Он сменил место обитания. Гастон сбился с ног, пытаясь напасть на след…
– Выходит, неизвестно, где он сейчас? И эта женщина, быть может, уже терпит муки?
– Есть только один способ помешать этому. Божий суд! И нам надлежит устроить поединок.
– Каким образом? Говори, Анна, я сделаю все, что в моих силах!
– Я обвиню Содона во лжи и призову парламент признать действия монаха незаконными. Он выразит протест, и тогда парламент вынесет решение установить истину путем судебного поединка. Я выставлю за себя бойца; им будет мой брат.
– Ла Ривьер?! Анна, ты с ума сошла! Как можно ставить на карту жизнь собственного брата? Ведь если, упаси бог, случится непоправимое… ты не простишь себе тогда.
– Мой брат хороший боец, я видела, как он дерется, и верю в победу. Мы с д’Оржемоном устроим так, что оружием Гастону послужит булава, он превосходно владеет ею.
– Господь дарует ему победу, ведь он будет биться за жизнь дамы его сердца!
– И тогда Эльзу оправдает сам Господь Бог!
– Будем же молиться за него, Анна.
– А коли брат потерпит поражение… то нашу фею сочтут виновной в ереси, и тогда ничто уже не спасет ее.
– Даже король?
– Он далеко. Он просто не успеет.
Жанна, помедлив, решительно произнесла:
– Тогда это сделаю я, своею властью, доставшейся мне столь высокой ценой. Но другой боец? Кто он? И даст ли Содон согласие на поединок?
– Таков закон. Церковь сама придумала это. И Содон обязан будет выставить за себя бойца, в противном случае он проиграет дело. Кто этот боец – не скажет сейчас ни дьявол, ни сам Бог.
– Это сделает шут, – заявил Тевенен. – Он не дружит с Богом, зато он знаком с пособником дьявола. Князь тьмы, облачившись в шкуру Содона, готовится пытать бедную женщину и для этой цели избрал себе нору, которую любезно предоставила в его распоряжение некая гадина. Шут, вероятно, глуп, но пусть никогда ему больше не спеть ни единого стишка и не забраться в спальню к фрейлине, если один негодяй не гостит у другого. Первый – Содон, второй – Ги де Тюдель, «собачка» покойного короля. Их было три, теперь одна.
И Тевенен поведал о своих наблюдениях.
– Отлично! – не могла сдержать радости Анна де Монгарден. – Монаху и в самом деле больше негде укрыться. Черт побери, Жанна, я всегда говорила, что одна голова шута стоит десяти голов придворных! Тевенен, беги скорее за начальником королевской стражи, а мы тем временем составим документ, дающий право забрать у Содона узницу, чтобы заключить ее в каземат королевской тюрьмы Консьержери: на нее пало обвинение в государственной измене, а это грозит немедленным судом и казнью.
– Но это еще страшнее! – возразил шут.
– Да, если бы парламент не возглавлял