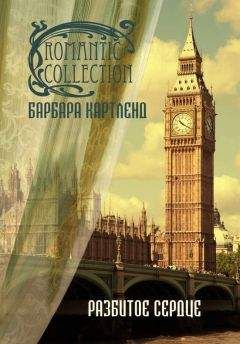Тем не менее он гордился и своим домом. Он часто рассказывал мне о значительных людях, с которыми ему приходилось отобедать, и о том, что они говорили о его картинах. Но радостней всего ему было здесь. У него была любимая старая куртка, в которую он влезал, как только оказывался у меня, — она сейчас висит на двери в моей спальне — и расслаблялся, а когда уставал, придремывал в кресле, и я не тревожила его, давала немного поспать.
Однажды он опаздывал на прием к премьер-министру. Проснулся и говорит: «Ну, Рози, ты погубишь мою политическую карьеру». Я расстроилась, а он целует меня и говорит: «Возможно, я меньше дорожу реальностью, чем своими маленькими радостями. Но ты значишь для меня куда больше, чем все парламентские акты, вместе взятые». А потом подхватил свою шляпу и был таков, я и словечка не успела сказать. Но таким он и был, ваш дядя — вихрем, налетавшим неожиданно. Я никогда не знала, когда его ждать и когда с ним прощаться. Теперь здесь так тихо, что мне просто страшно становится.
— А вы знали друзей дяди? — спросила я.
— В глаза не видела, — ответила Рози. — Одно время я думала, что он стыдится меня. Я не дура, моя дорогая, и всегда удивлялась тому, почему такой умный человек, как твой дядя, привязался ко мне на столь долгие годы. Я знала, конечно, что не принадлежу к его классу, и рассчитывала, что он будет, так сказать, помалкивать обо мне, но, когда однажды вечером я сказала ему что-то в этом роде — в молодые годы у меня был еще характер, — не могу вспомнить свои точные слова, что — то вроде того, что его друзья слишком умны для меня, он повернулся, взял меня за плечи и тряхнул. «Никогда не говори таких слов, Рози, — сказал он, — никогда не говори, что я-де стыжусь тебя. Я ничего не стыжусь в своей жизни. Я горжусь тем, что ты любишь меня, и со смирением, на коленях, благодарю Бога за то счастье, которое мы обрели вместе с тобой, но я — человек ревнивый и не буду делить тебя с кем бы то ни было… Понимаешь: ты — моя женщина, и я не хочу с кем-то делить тебя. Я не хочу, чтобы тебя портили своей лестью те, кто не способен оценить тебя по достоинству, или общество, которое будет превозносить тебя по моему слову и осмеивать за твоей спиной. Этот уголок принадлежит нам обоим, мы с тобой вместе по естественному праву — мужчина и женщина, какими сотворил нас Господь. И ты считаешь, что я рискну этим счастьем ради нескольких завтраков и обедов в обществе тех, кто — помилуй их, Боже, — считают себя значительными людьми в мире притворства?»
И тут я поняла, что, собственно, он хотел этим сказать. Здесь он мог обрести убежище, хотя я и не знаю почему — он был умным человеком, а я никогда не претендовала на ум. В юные годы я всего лишь была хороша собой и неплохо танцевала.
— Вы выступали на сцене? — спросила я.
Миссис Хьюитт поднялась, и, взяв с пианино фотографию, подала ее мне.
— Такой я была, — сказала она.
И я увидела хорошенькую круглолицую девушку в наряде Клеопатры. Забавная старая фотография тем не менее сохранила, на мой взгляд, броскую и зовущую привлекательность.
— А вот еще одна, — продолжила миссис Хьюитт, снимая фотографию с каминной доски.
На этом снимке ее пышные волосы выходили за пределы кадра, и она во весь рот улыбалась в объектив.
— Я пользовалась некоторой известностью, это так, — сказала она. — По большей части в мюзик-холлах. Меня называли Ожившей розой, потому что у меня была такая сценка. Занавес поднимался, и я выглядывала из огромной вазы, посреди пышных юбок из розовой тафты, поднятых вверх — к плечам.
Выдержав паузу, я спускалась вниз по устроенной позади вазы лестнице и начинала танцевать на сцене. Было очень мило. Ваш дядя вечер за вечером приходил посмотреть на меня.
— Миссис Хьюитт, — сказала я. — Я пришла…
— Зовите меня Рози, дорогая, — перебила она. — Терпеть не могу, когда меня называют миссис Хьюитт. Потом это имя напоминает мне о бедном Хьюитте, моей радости, увы, безвременно потерянной! Если бы не настояние вашего дяди, давно избавилась бы от этой фамилии.
— А что же произошло с вашим мужем? — спросила я.
— Самой хотелось бы знать, — ответила Рози. — Ускакал неведомо куда ровно через две недели после нашего брака, и с тех пор от него ни слуху ни духу. Не удивлюсь, если у него уже где-то была жена, но вряд ли это можно доказать.
— Как это было ужасно для вас! — проговорила я.
— O, не стоит сочувствия, дорогая моя. В те времена в моей жизни было много мужчин. Конечно, еще до того, как я познакомилась с вашим дядей. Я преуспевала по своим меркам, a потом познакомилась с режиссером — по крайней мере, он так себя называл, — он подсказал мне идею Ожившей розы и вывел на большую сцену.
Одно время я получала тридцать фунтов в неделю, а потом появился ваш дядя, и я поняла, что выдохлась, что сцена меня больше не интересует. Я выступила еще несколько раз, но все пошло иначе — сердце мое было уже в другом месте. К тому же мы путешествовали, и ни один агент не станет интересоваться тем, кто сегодня готов участвовать в спектакле, а завтра нет. Еще глоток портвейна?
Я покачала головой.
— Нет, спасибо, — сказала я. — А теперь я хочу кое-что спросить у вас. Рассказывал ли вам дядя Эдвард о тех, кому был неприятен? Были ли у него враги?
— Сколько угодно, — ответила Рози. — В политике без врагов не обойтись.
— Но сам он говорил о них? — настаивала я. — Особенно о ком-нибудь, кто желал убрать его со своего пути? И не только о каких-то конкретных людях… ведь в последние военные месяцы могут действовать организации или тайные общества, настроенные против дяди?
Рози потерла лоб.
— Дайте подумать, — проговорила она. — Да, в последние месяцы он кое-кого упоминал. Но кого? Какой-то человек устраивал ему неприятности возле Глазго.
— Возле Глазго? — повторила я.
— Да, так и было, должно быть, потому, что он говорил о том, что ему-де надо ехать в Шотландию, а я не хотела отпускать его, потому что там особенно частые налеты. Да, именно так, какой-то человек возле Глазго.
— А поточнее не можете вспомнить? — спросила я. — Может, вспомните имя этого человека?
— Увы, моя вина, — проговорила Рози. — Эдвард называл его имя, но, по правде сказать, дорогая, я не старалась запоминать подробности. Ваш дядя говорил в моем присутствии о многом, и я понимала, что он проясняет эти предметы для себя самого, так сказать, раскладывает по порядку, но не для меня — для себя самого. У него была такая привычка — думать вслух, и он любил говорить: «Рози, наш дом — единственное место, где я осмеливаюсь думать. Слишком опасное занятие теперь, когда я стал такой важной персоной. Я могу выдать тайны правительства, после чего меня расстреляют в Тауэре». Он всегда бы большим шутником, ваш дядя.