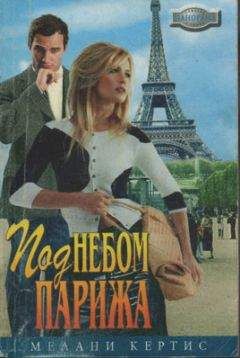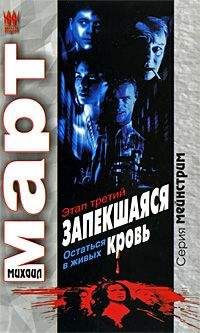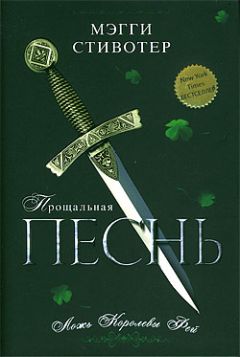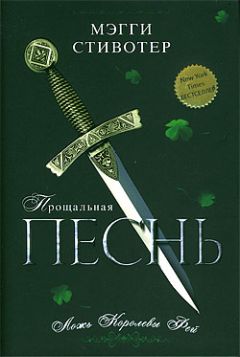Его взгляд, бесстыдно опустившись на лиф платья девушки, также воздал хвалу этим достоинствам.
Холли, учтиво улыбаясь, сказала:
— Прежде чем ваш менестрель продолжит свою песню, милорд, позвольте предложить вам отведать еще вина.
— Буду очень признателен.
Опередив Элспет, Холли стиснула до боли в пальцах ручку изящного серебряного кувшина. Эжен грациозно подставил кубок. Наклонив кувшин за три дюйма от кубка, девушка обрушила водопад горячего вина на колени Монфора.
— Боже всемогущий!
Барон вскочил с места, безуспешно пытаясь отлепить промокший насквозь бархат от тела.
— Какая я неловкая! К счастью, вино успело немного остыть. — Холли презрительно взглянула на выступающий гульфик барона. — Надеюсь, я не испортила вашу одежду.
Грозное восклицание отца, похожее на рычание, предупредило ее, что на этот раз она зашла слишком далеко.
— Сэр, вы должны простить мою дочь, — подобострастно обратился он к гостю. — Она иногда бывает подвержена судорогам. Это у нее с детства. Разумеется, ничего наследственного, — поспешил добавить он, протягивая барону кружевной платок, словно выбрасывая белый флаг.
Эжен жестом оскорбленного достоинства отказался от предложенного платка. Его глаза стали холодными и тусклыми, будто погасшие угли. Холли вдруг подумала, что из-за этой проделки она, видимо, избавилась от нежеланного соискателя руки, но нажила себе опасного врага.
— Кажется, я уже начал злоупотреблять вашим гостеприимством. Всего хорошего, милорд, — сказал барон, закутывая узкие плечи в плащ.
Сверкнув взглядом и бросив Холли немой вызов, он буквально вонзил серебряную пряжку в ткань, застегивая плащ.
— До встречи, миледи.
Монфор удалился из зала в сопровождении менестреля, семенящего за ним следом, точно пристыженный щенок, и в зале установилась жуткая тишина. Холли поднялась с места, надеясь ускользнуть к себе без всяких объяснений, но это ей не удалось.
— Сядь! — рявкнул отец.
Холли села. Элспет испуганно подалась к стрельчатой арке окна. Девушка подумала, что, если бы по приказу графа прошлой весной допотопные деревянные ставни не были заменены цветным витражом, служанка взобралась бы на оконный карниз.
Граф прошел к очагу, облокотился рукой на каменную плиту. Он стоял, слегка покачиваясь на каблуках, и молчал, погруженный в тяжелые размышления.
Холли подумала было, не стоит ли залиться слезами, но тотчас же отмела эту мысль. Всего лишь одна слезинка, заблестевшая в ее голубых глазах, повергала рыцарей и принцев на колени, но отец не зря прожил с нею восемнадцать лет и научился противостоять подобным уловкам.
Не в силах больше выносить этот немой укор, Холли сказала в свое оправдание:
— Он сравнил мои уши с кошачьими! Эти уши едва не оглохли, когда отец, обернувшись, заревел:
— Монфор пользуется благосклонностью короля. Если ему угодно, он может называть твои уши ослиными!
— Нам всем хорошо известно, как он добился расположения Его Величества, — возразила Холли. — Сдирая три шкуры со своих вассалов, торгуя гнилыми продуктами и лежалым зерном, лишая вопреки закону подданных праздников! А все нажитые таким образом деньги он использовал для услаждения королевского слуха.
Запоздало осознав, что гнев дочери мало чем уступает его собственному, граф примирительно поднял руку.
— Из этого никоим образом не следует, что он стал бы тебе плохим супругом.
Но Холли не собиралась так легко сдаваться.
— Той несчастной богатой наследнице, которую барон осчастливил своим предложением, он стал весьма плохим супругом. Особенно если вспомнить, что бедная девочка выпала из окна башни за день до того, как мне исполнилось восемнадцать. Неужели ты так сильно хочешь выдать меня замуж?
Граф, гнев которого внезапно утих, казался сейчас утомленным и постаревшим.
— Да, дитя мое, хочу. Большинство твоих сверстниц уже давно замужем, имеют детей или ожидают их. А ты чего ждешь, Холли? Я пошел у тебя на поводу и позволил тебе больше года выбирать спутника жизни. Но ты издеваешься над моим терпением и насмехаешься над красотой, которой благословил тебя наш милосердный господь. Холли вскочила с места, подметая парчовыми юбками каменный пол.
— Благословил! Это не благословение, а проклятие! — ее голос дрожал от презрения. — «Холли, не выходи на солнце. Ты испортишь цвет лица!» «Холли, не смейся слишком громко. Ты охрипнешь!» Мужчины толпами стекаются в Тьюксбери, чтобы похвалить мой голос, однако никто из них не слышит ни одного сказанного мною слова. Они восторгаются цветом моих глаз, но никогда не заглядывают в них. Они видят только мою белую, как мрамор, кожу! — Холли сердито дернула прядь волос, которая тотчас же снова свернулась в безупречный завиток. — Мои черные, как смоль, локоны! — Она обхватила руками пышную грудь. — Моя нежная, соблазнительная…
Запоздало осознав, к кому она обращается, Холли покраснела и склонила голову, вцепившись руками в шитый золотом пояс.
Граф, возможно, и рассмеялся бы, но гневное высказывание его дочери как никогда отчетливо обозначило стоящую перед ним дилемму. Холли в спокойную минуту представляла собой чуть не ангела, от лицезрения которого трудно было оторваться; Холли разгневанная могла довести до безумия любого рассудительного человека. Но даже ярость не могла исказить ее нежное личико. Черные волосы каскадом ниспадали на хрупкие плечи.
Сердце графа стиснула знакомая боль, порожденная смесью удивления и ужаса. Удивления тем, что такое прелестное создание обязано своим существованием страшненькому толстому коротышке, каковым он считал себя.
Ужаса от того, что он оказался совершенно недостойным такого счастья.
Граф де Шастл склонил голову, борясь с неутихающей болью. Он никак не мог простить своей супруге Фелиции, что та умерла, оставив на его попечение очаровательную малышку. Холли превратилась из милого ребенка с пухлыми ножками и спутанными кудряшками сразу во взрослую женщину, стройную и грациозную, миновав неуклюжесть и угловатость, неизбежные для подростка.
Теперь, как гласила молва, Холли — самая прекрасная девушка во всей Англии, во всей Нормандии, возможно, на всем свете. Люди приходят издалека в тщетной надежде хотя бы мельком увидеть ее, но ее отец принимал в своем доме лишь самых богатых, лишь самых благородных дворян. Не забота о внешности дочери заставляла графа держать ее взаперти в замке: причиной всему был страх за нее. Граф де Шастл втайне боялся, как бы какой-нибудь мужчина не похитил его дочь и не лишил ее невинности, не утруждая себя испрашиванием надлежащего благословения, отцовского и божьего.