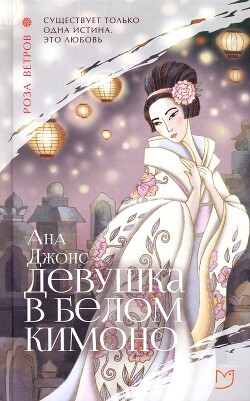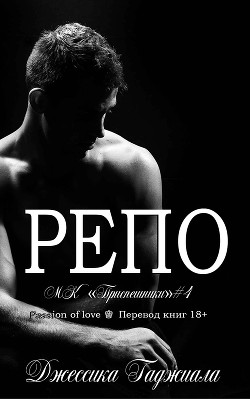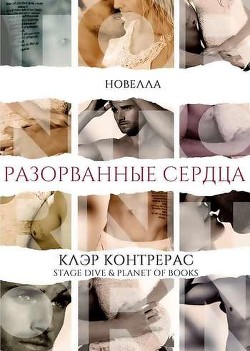Это плачет мать.
* * *
— Почему плачет Йоко? — шепотом спрашиваю я, но мне хочется кричать. Что случилось с ребенком? Что случилось с ребенком?
До нас доносятся приглушенные голоса, потом тяжелые шаги. Я всматриваюсь в лица девушек в поисках ответа на вопрос. Джин не отрывает взгляда от пола. Хатсу смотрит прямо перед собой, в никуда. Айко и Чийо обмениваются взглядами, потом без единого слова встают и идут к двери.
— Подождите. Чийо?
Она оглядывается на меня, пока остальные уходят. Ее красные губы искривляются в ухмылке.
— А ты что думала, Наоко? Что у нас у всех есть красавцы мужья, которых мы ребенком заставили на нас жениться? — она фыркает и захлопывает за собой дверь.
В груди тяжело колотится сердце, дрожат руки. Текущие сами по себе слезы жгут глаза. Она же не имела в виду... Я, должно быть, ошиблась. Ну конечно же, я ошиблась. Вот только все во мне страшится худшего.
На четвереньках я подползаю к отделяющей мою комнату перегородке и прикладываю к ней ухо. Я изо всех сил прислушиваюсь, чтобы услышать ребенка. Я должна услышать этого ребенка.
Я очень хочу услышать его плач, перекрывающий тихий плач его матери.
И мой собственный.
ГЛАВА 24
Япония, настоящее время
Меньше чем через неделю после получения письма от Йошио я уже садилась на борт «Боинга 777», направляясь на восток. Самолет разогнался, убрал шасси и спустя минуты уже рассекал утренние облака. Я была готова к шестнадцатичасовому перелету, но так и не смогла успокоиться.
Я смотрела фильмы, отслеживала продвижение самолета с помощью специальной бортовой программы и смотрела в окно. Наблюдает ли за мной мой отец? Рад ли он моей поездке? Правда, если знает, как я за нее расплатилась, то не очень.
Когда папа впервые привез кадиллак домой, мама не была в восторге от его бросающейся в глаза экстравагантности, говоря, что это слишком большая и слишком дорогая машина.
— У нас же уже есть надежный автомобиль, — говорила она, но папа твердил, что приобретение жемчужины производства «Дженерал Моторс» всего за семь с половиной тысяч долларов было настоящей инвестицией. Оказалось, что он был прав.
В 1958-м за «Кадиллак Эльдорадо Биарриц» в отличном состоянии от серьезных коллекционеров можно было получить от семидесяти до двухсот тысяч долларов. Мне же удалось заключить сделку на сумму примерно посередине. Этого было больше чем достаточно для покупки билетов и оплаты самой поездки, но чувство вины за эту продажу было почти невыносимым.
Когда покупатели погрузили драгоценный папин кадиллак на эвакуатор и увезли, я стояла возле дороги и плакала. Я продала единственную ценность, переданную мне в наследство.
Но, в конце концов, шанс восстановить папино доброе имя, мои воспоминания о нем, моя вера в справедливость мира и понимание того, что с ним произошло, стоили неизмеримо больше.
Жаль только, что я не знала, чего ожидать.
Йошио еще не получил ответов на запросы о налогах на недвижимость, с помощью которых можно было бы узнать имя владельца, но уже успел найти новый точный адрес дома и пообещал съездить в Дзуси и договориться о встрече и интервью с хозяевами. Я была ему очень признательна за помощь, но тот факт, что Иошио не дал мне адрес, тут же насторожил меня как журналиста. Он, как истинный профессионал, прекрасно понимал, что стоит ему дать мне необходимую информацию, и я тут же исключу его из этой истории. А поскольку я никогда не писала сентиментальных сюжетов или очерков о стиле и доме, то он, скорее всего, почуял в моем интересе хорошую историю.
Это был не первый раз, когда мы с ним хватались за одну и ту же тему. Как-то мы с ним одновременно стремились взять интервью у председателя Совета управляющих МАГАТЭ, но эта честь в итоге досталась мне. И когда моя статья привлекла международное внимание, Йошио сменил «сторону» и написал статью — опровержение моей, которая привлекла почти столько же внимания, сколько и исходная.
И дело было не в том, что я в чем-то винила Йошио, ни тогда, ни сейчас, журналистика всегда была игрой на информации, в которую мы оба играли, чтобы заработать себе на жизнь. К тому же я информировала его, что мое расследование носило частный характер, вот только не объяснила, какой именно. Я собиралась рассказать ему чуть больше на обеде в Токио. Мне только оставалось хорошенько обдумать свой стиль поведения с ним и количество и качество информации, которой я могу с ним поделиться.
Где-то позади меня заплакал ребенок, а потом прозвучало объявление капитана и зажглись значки «Пристегните ремни». Мы стали снижаться, и у меня заложило уши. Я сложила свой столик, упаковала вещи и подняла шторку на окне.
Международный аэропорт Нарита находился в часе езды от Токио, поэтому в окне я не увидела потрясающих видов мегагорода и горы Фуджи. Только извилистые водные каналы, соты из зданий и характерные лоскутные контуры возделанной земли. В отличие от «гребенок» Среднего Запада, ландшафт больше походил на поле для гольфа с его песчаными ловушками и водными преградами. Я придвинулась ближе к двойному стеклу и прищурилась, чтобы лучше видеть. Поля были подтоплены. Я думала, что сезон дождей уже закончился. Мы постепенно спускались, и мелкие заводи с глинистым дном становились видны все лучше: это были рисовые поля. Я почувствовала толчки турбулентности, схватилась за подлокотники и приготовилась к посадке.
Спустя долгие часы полета и с четырнадцатичасовой разницей во времени в Японию я прибыла в состоянии крайней усталости. На контроле я протянула свой посадочный талон, медицинскую карточку и таможенную декларацию, потом отстояла долгую очередь, пока мы проходили иммиграционный контроль, где я была сфотографирована, сдала отпечатки двух пальцев и скан глаза и измерила температуру. У моего сотового оператора здесь не было поддержки, я не была уверена, будут ли здесь работать мои кредитные карты, и все указатели на территории аэропорта указывали направление к железнодорожной станции, а до моего отеля мне надо было добираться на автобусе.
Через час я уже была в отеле, выпила успокоительное и, коснувшись головой подушки, взмолилась о величайшей из небесных милостей — о сне.
На следующее утро, когда я садилась на многолюдный поезд Нарита-экспресс, в котором были просторные сиденья, безукоризненно чистый интерьер, а окна обеспечивали прекрасные виды, все тяготы долгого и изматывающего путешествия были уже забыты. У меня было место у окна, и я вовсю наслаждалась роскошными пейзажами префектуры Тиба на пути к одному из самых густонаселенных мегаполисов мира — Токио.
Скоростной поезд мчался сквозь заболоченные рисовые поля и широкие зеленые зоны, обходя по краю сонные поселки, которые, если верить моей карте, обладали богатой историей. В одном стояла датская ветряная мельница, окруженная акрами сезонных цветов, — дар Нидерландов в честь столетия торговли. Другой был тайным городом самураев. Интересно, а отец останавливался, чтобы посмотреть на эти руины? Гулял ли он по петляющим дорожкам, чтобы осмотреть оставшиеся дома тех, кто поклялся их защищать?
Стоило нам пересечь воду, как загородная зелень за окном сменилась на серые городские тона, на узкие высокие здания, теснящие друг друга. Из-за искривления в оконном стекле мне показалось, что они приветствовали меня восточным поясным поклоном. Я считала, что много путешествую, но ничто из того, что я видела, не могло сравниться с Токио — ни размер Чикаго, ни плотность Нью-Йорка.
Линия горизонта вообще была немыслимой.
Я сверилась с названием остановки по экрану, на котором горели надписи на четырех языках, посмотрела на свой багаж и подготовилась к выходу. Снаружи меня сначала потрясла влажность воздуха, а потом — осознание того факта, что здесь был мой отец. Я делала первые шаги по настоящей земле его историй. Теперь, вместо того чтобы отмечать его передвижения гвоздиками по карте, я могу пройти его дорогами. По моей коже забегали мурашки.