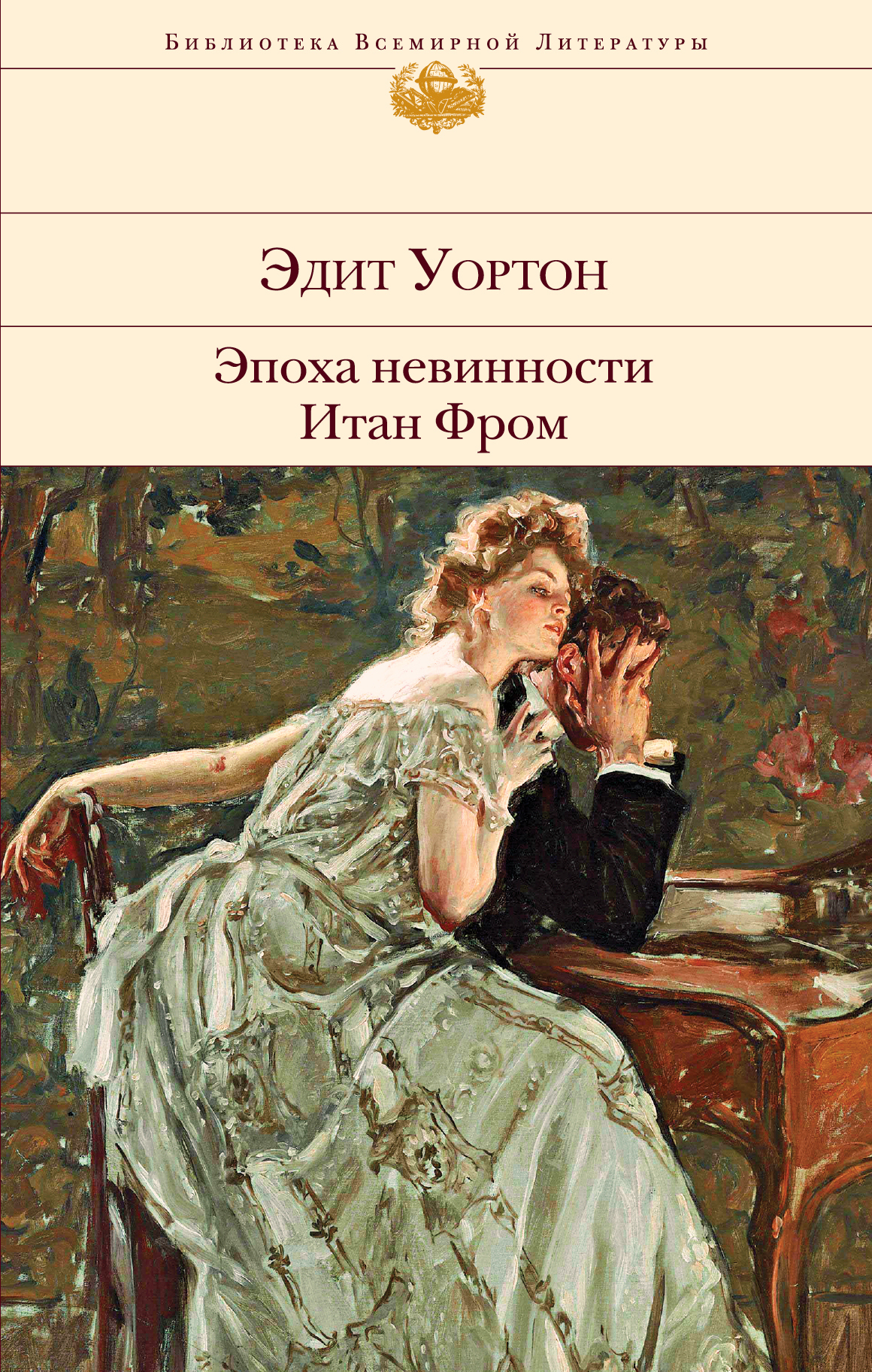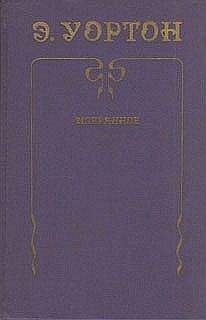считаешь, Ньюленд, но решить, что надеть, ты мне не помог.
Его вдруг осенило:
– А почему бы тебе не надеть твое свадебное платье? Ведь оно подойдет, не правда ли?
– О милый! Если б оно у меня было! Я ж его отправила в Париж на переделку к следующему зимнему сезону, и Уорт мне его еще не вернул!
– Ах, вот оно что… – Арчер встал из-за стола. – Слушай, туман рассеялся. Если сейчас, не теряя времени, отправиться в Национальную галерею, то можно успеть посмотреть картины.
Чета Арчеров собиралась домой после трехмесячного свадебного путешествия, которое Мэй в письме к подруге туманно охарактеризовала как «блаженное».
На итальянские озера они не поехали: по зрелом размышлении Ньюленд понял, что не представляет жену на таком фоне. Сама она (по прошествии месяца, проведенного в парижских домах моды) выразила желание провести июль в горах, а в августе – поплавать на побережье. Что и было в точности выполнено: июль они провели в Интерлакене и Гриндельвальде, а август – в приморском местечке под названием Этрета в Нормандии. Место это им рекомендовали как забавное и тихое. Раз или два, гуляя с ней в горах, Арчер показывал на юг со словами: «А вон там Италия», на что Мэй с лучезарной улыбкой говорила: «Хорошо будет на следующий год туда съездить, если только тебя в Нью-Йорке дела не задержат».
Но на самом деле путешествия, как оказалось, увлекают ее меньше, чем он думал. Она воспринимала их (после того, как завершила заказывание нарядов) лишь как дополнительные возможности для прогулок, верховой езды, плавания и упражнений в новой восхитительной игре – лаун-теннис, и когда в конце концов они вернулись в Лондон (где им предстояло провести две недели, чтоб он смог заказать одежду себе), она уже не скрывала нетерпения, с которым ожидала отплытия на родину.
В Лондоне ее занимали лишь театр и лавки, причем лондонские театры показались ей не столь интересны, как были интересны парижские кафе-шантаны на Елисейских Полях, где, сидя под цветущими каштанами на террасе ресторана, было так восхитительно ново наблюдать за публикой, состоявшей из парижских кокоток, и просить мужа перевести ей слова песенок, которые он считал безопасными для девственных ее ушей.
Арчер вернулся к тем взглядам на брак, в которых он был воспитан. Следовать традиции и относиться к Мэй так, как относились к женам его приятели, казалось менее хлопотно, чем претворять в жизнь теории, которыми он забавлялся в пору своего вольного холостяцкого существования. Бессмысленно пытаться эмансипировать жену, если та даже не догадывается, что порабощена, и он давно уразумел, что Мэй свобода нужна лишь для того, чтоб принести ее на алтарь своего женского любовного служения. Врожденное достоинство позволяло ей при этом не унижаться, но он подозревал, что в один прекрасный день, решив, что жертва ее идет на пользу лишь ему одному, она может и перестать приносить эту жертву. Однако для нее, обладавшей столь незамысловатым представлением о браке и не страдавшей в этом вопросе излишним любопытством, подобный сокрушительный кризис был бы возможен, лишь если в поведении своем он допустил бы нечто вопиющее, а благородство ее чувств к нему делало подобное совершенно немыслимым, он знал, что она останется верна ему, будет предупредительна и незлобива, что делало необходимым ему проявлять те же добродетели.
Все это и склоняло к тому, чтобы вернуться к прежним привычкам и умонастроениям. Если б ее красота изобличала в ней мелочную низость, он бы раздражался и бунтовал, но так как черты ее характера, пусть и несложного, были так же изящны, как и черты ее лица, она виделась ему ангелом-хранителем всего, что он привык чтить, чему был приучен поклоняться.
Все эти качества, делая ее приятным компаньоном в путешествиях, не могли в должной мере оживлять и разнообразить течение их дней за границей, но он не сомневался, что в более привычной обстановке они окажутся вполне уместными и применимыми. Он не боялся ощутить на себе их гнет, так как знал, что его интеллектуальная, как и эстетическая, жизнь будет проходить, как и раньше, вне дома, и значит, ничто не будет ее стеснять и чем-то ограничивать. Возвращаясь к жене после того, как долго странствовал на воле, он не ощутит затхлости и духоты тесного помещения. А появление детей и вовсе заполнит пустоты в жизни обоих.
Такие мысли занимали его на долгом пути из Мэйфера в Южный Кенсингтон, где жили миссис Карфри с сестрой. Арчер в соответствии с фамильной традицией предпочел бы уклониться от визита к их гостеприимным друзьям, тем более что путешествовать любил скорее как наблюдатель и ценитель достопримечательностей, присутствие же рядом других людей он высокомерно игнорировал. Лишь однажды, окончив Гарвард, он провел несколько бурных недель во Флоренции в компании забавных европеизированных американцев, танцуя с ними по вечерам и проводя дни за карточным столом модного клуба, где собирались как денди, так и шулера. И хоть время это он вспоминал как самое веселое, оно представлялось ему теперь уже чем-то нереальным, наподобие карнавала. Как в тумане, в памяти возникали странные женщины, занятые запутанными любовными романами, о которых они почему-то всегда жаждали рассказать первому же случайному знакомому, и блестящие молодые офицеры или же потертые, с крашеными волосами великосветские остроумцы слушали эти исповеди, становясь их конфидантами. Все эти люди были так не похожи на тех, среди которых он рос, что казались ему какими-то дорогостоящими, но дурно пахнущими оранжерейными растениями, слишком экзотическими, чтобы долго думать о них. Ввести свою жену в такое общество было бы немыслимо, к тому же за все время их заграничного путешествия особого интереса к нему никто и не проявлял.
Вскоре после их прибытия в Лондон он неожиданно столкнулся с герцогом Сент-Остреем, тот моментально его узнал и сердечно приветствовал, сказав: «Загляните ко мне, хорошо?», но никто из здравомыслящих американцев не счел бы эти слова действительным приглашением, почему их встреча и не возымела продолжения. Они даже ухитрились не посетить тетку Мэй, ту самую, что, будучи замужем за банкиром, все еще оставалась в Йоркшире. Строго говоря, они намеренно отложили свой приезд в Лондон до осени с тем, чтобы не являться в разгар сезона, что их неведомые родственники могли бы посчитать снобизмом или же нахальством.
– Может быть, у миссис Карфри и не будет никого, Лондон в это время года – настоящая пустыня, а ты так нарядилась! – сказал он Мэй, сидевшей рядом с ним в экипаже, такая, безусловно, прекрасная, такая роскошная в голубой, отороченной лебяжьим пухом накидке, что казалось даже жестоким погружать ее в грязный и прокопченный лондонский сумрак.
– Я