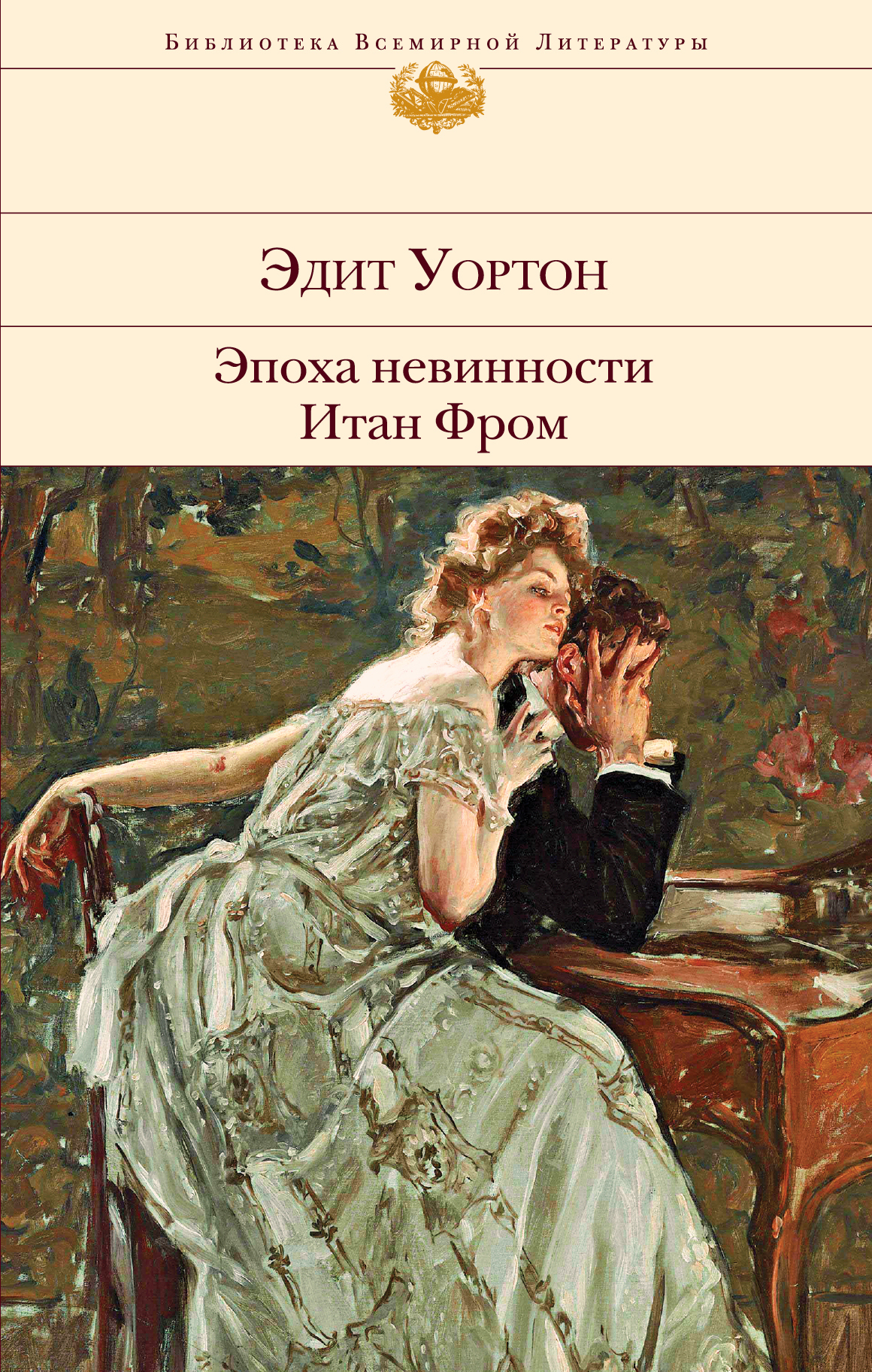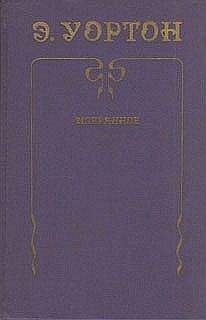не хочу, чтоб они думали, что мы в Америке одеваемся как дикари! – воскликнула она негодующе, эдакая Покахонтас [45], возмущенная в своих лучших чувствах, и он лишний раз поразился, с каким поистине религиозным трепетом соблюдают условности одежды даже самые несветские из американок.
«Это их броня, – думал он, – их защита от всего неведомого, вызов, который они бросают неизвестности». И он впервые понял, каких усилий, должно быть, стоили Мэй, не умевшей завязать даже бант в волосах, все ее старания понравиться ему и пройти через торжественный и строгий ритуал выбора и заказывания огромного ее гардероба.
Ожидая, что гостей у миссис Карфри окажется немного, он оказался прав. Не считая хозяйки и ее сестры, в длинной промозглой гостиной находились лишь еще одна дама в шали, любезный викарий – ее муж, молчаливый парнишка, которого миссис Карфри представила как своего племянника, и небольшого роста смуглый джентльмен с живыми глазами. Последнего миссис Карфри назвала своим наставником, назвав его французскую фамилию как-то не очень четко.
В этой тускло освещенной гостиной и среди этой довольно тусклой компании Мэй Арчер выглядела каким-то светлым, озаренным розовыми лучами закатного солнца лебедем. Она словно выросла, стала еще краше, шелестела шелковыми складками платья еще громче, еще внушительнее, чем когда-либо, и он понимал, что и розовый румянец, и это шелестение шелковых складок – все это от смущения, непомерного и совершенно детского.
«О чем они хотят, чтобы я с ними говорила?» – казалось, спрашивал ее молящий взгляд, в то время как ее ослепительное явление вызывало и у них ту же тревогу.
Но красота ее, которой она сама так не доверяла, невольно проникала в сердца мужчин, и викарий, а также и наставник с невнятным французским именем вскоре изъявляли полную готовность развлечь Мэй и дать ей почувствовать полный комфорт.
Но, несмотря на все их усилия, обед тянулся долго и томительно. Арчер замечал, что старания жены вести себя с иностранцами свободно и раскованно выглядят неуклюже и провинциально и что, хотя миловидность ее и располагает всех в ее пользу, неумение поддерживать беседу отклика не вызывает, делая обстановку за столом натянутой и принужденной. Викарий сдался первым, но наставник все продолжал изливать на нее галантный поток своего изысканного и свободного английского до тех пор, пока дамы, к явному облегчению всех присутствующих, не удалились в другую комнату.
Викарий после рюмки портвейна вынужден был поспешить на собрание, племянник, оказавшийся больным, был отправлен в постель, но Арчер и наставник все сидели, попивая винцо, и Арчер внезапно поймал себя на том, что беседует так увлеченно, как не беседовал со времени своей последней встречи с Недом Уинсетом. Выяснилось, что племянник Карфри болен чахоткой, отчего был вынужден оставить Харроу [46] и отбыть в Швейцарию, где и прожил два года в мягком климате возле озера Леман. Как мальчик книжный, он был препоручен заботам мсье Ривьера, который и привез его потом в Англию и должен теперь оставаться с ним до весны, когда тот поступит в Оксфорд, а ему, как простодушно признался мсье Ривьер, надо будет искать себе другую работу.
«Вряд ли, – думал Арчер, – найти такую работу ему будет трудно, учитывая разнообразие его интересов и дарований». Ему было лет тридцать, и его тонкое, с неправильными чертами лицо (Мэй, несомненно, назвала бы его некрасивым) делала очень выразительным живая игра ума, но ни легкомыслия, ни банальности в этой его живости не чувствовалось.
Его рано умерший отец занимал небольшую должность, подвизаясь на поприще дипломатии, и предполагалось, что и сын унаследует эту профессию, но неистребимая страсть к литературе заставила юношу удариться в журналистику, затем попробовать себя в качестве писателя (видимо, без успеха) и, в конце концов, после многих проб и злоключений, от описания которых он избавил слушателя, он занялся воспитанием английских юношей в Швейцарии. До этого, однако, он жил в Париже, посещал кружок Гонкуров, получил от Мопассана совет больше не писать (в представлении Арчера даже это являлось неслыханной честью!) и нередко беседовал с Мериме в доме его матери. По всей видимости, он всегда был отчаянно беден и жаждал пробиться (имея на руках мать и незамужнюю сестру), и было ясно, что литературные его поползновения потерпели крах. В материальном отношении положение его было не лучше, чем у Неда Уинсета, жил он в мире, где, по его выражению, всякий, живущий идеями, голода духовного испытывать не может. А именно от этого голода так страдал и чуть не погибал Нед Уинсет; и Арчер глядел чуть ли не с завистью на этого молодого мужчину, который, не имея в кармане ни гроша, даже в нищете своей ощущает себя богачом.
– Ах, мсье, ведь это же так важно, не правда ли, сохранять интеллектуальную свободу, не терять критического чувства и независимости! Ради этого я и оставил журналистику, обрек себя на более скучную и однообразную работу – педагогику и труд секретаря. В этом много тягостного, не спорю, зато сохраняешь нравственную свободу, как мы это называем по-французски quant-à-soi [47]. И всякий раз, когда завязывается хорошая беседа, ты можешь участвовать в ней и свободно высказать свое мнение! А можешь просто слушать и держать свое мнение при себе. Ах, хорошая беседа, что может быть лучше этого, вы не находите? Мир идей – единственная атмосфера, которой стоит дышать! Поэтому я и не жалел никогда, что не стал дипломатом, что бросил журналистику. Ведь и то, и другое – это ж предательство себя! – Не сводя с Арчера своих блестящих глаз, он закурил новую папиросу. – Voyez-vous [48], мсье, чтобы смотреть в лицо жизни, строго говоря, можно жить и на чердаке. Но даже и чердак стоит денег, не так ли? А, признаться, кончить жизнь домашним учителем или вообще кем бы то ни было «домашним» так же убийственно для воображения, как и служба вторым секретарем посольства в Бухаресте! Иной раз мне кажется, что настало время сделать шаг, и шаг решительный! Как, по-вашему, мог бы я начать новую жизнь в Америке, в Нью-Йорке?
Арчер глядел на него с изумлением. Нью-Йорк для юноши, общавшегося с Гонкурами и Флобером, считающего, что только ради идей и стоит жить! Он продолжал глядеть на мсье Ривьера, думая, как сказать ему, что сама несомненность его достоинств и преимуществ стала бы препятствием успеху.
– Нью-Йорк… Нью-Йорк, почему же обязательно Нью-Йорк? – промямлил он, понимая, что совершенно не способен вообразить какое-либо выгодное с хорошей перспективой место, которое мог бы представить родной город человеку, считающему единственной ценностью и необходимым условием жизни для себя хорошую беседу.
Землистое лицо мсье Ривьера внезапно