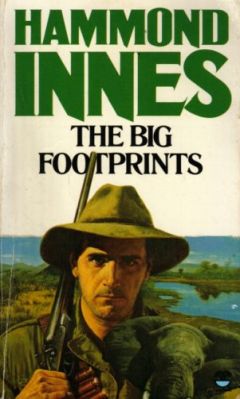Она опустила глаза на собственную рваную красную нижнюю юбку, на голые ноги и башмаки на деревянной подошве и осознала, что была идеальной парой для такого мужлана, как Джек. Ее блузка, некогда белая и отороченная кружевами по низкому вырезу, теперь не выдерживала никакой критики. Она приобрела серый цвет, кружева были порваны, но вырез открывал для обозрения такую же порцию груди, как и в лучшие времена, а косынка из грубой ткани, жалкая и замурзанная, едва прикрывала выпирающую из декольте плоть. Ее волосы были заколоты на темени и собраны в неряшливый узел, и их увенчивал популярный в народе головной убор, тоже видавший лучшие дни.
На шее у нее на длинном кожаном ремешке висела плетеная корзинка, при ходьбе ударявшая ее по бедру. Она была полна свежеиспеченного хлеба, бриошей и рогаликов, аромат которых на рассвете наполнил весь чердак для хранения яблок. Под серой тряпицей был уложен второй слой столь же свежего хлеба, предназначенного для раздачи узникам. Были там и две черствые булки, которые она собиралась показать тюремщикам, если бы те потребовали от нее доказательств того, что ее товар в нижнем ряду несъедобен. Ни для кого, кроме самых несчастных и отчаявшихся.
На мгновение Арабелла подумала о своем лондонском облике, о той исключительной заботе, которую проявлял Джек, чтобы изменить ее деревенскую непритязательность и превратить ее в законодательницу мод и свою совершенную подругу жизни с безупречной внешностью. Контраст был столь абсурдным, что она бы расхохоталась, если бы не была перепугана насмерть.
– Ты уверена? – тихо спросил Джек.
– Абсолютно, – ответила Арабелла и двинулась к воротам тюрьмы.
По мере того как она удалялась от него, с каждым ее шагом росло ощущение беззащитности, и сердце ее билось так болезненно и быстро, что она испугалась, что ее сейчас стошнит. Но она продолжала идти, влившись в толпу других торговцев, позволив этому потоку внести ее в тюремный двор. На трех стенах тюрьмы красовались крошечные зарешеченные оконца, похожие на маленькие вкрапления стекла на фоне неумолимо-серого камня. Во дворе кипела жизнь, царило оживление. Мужчины играли в кости и карты, женщины, одетые точно так же, как она, продавали то, что принесли в плетеных корзинках. Осел, нагруженный тяжелой поклажей, терпеливо стоял в центре двора, опустив голову, чтобы ослепительное солнце не било ему в глаза, в то время как погонщик препирался с жандармами, торговавшимися из-за медных кастрюль и сковородок, корзинами с которыми был нагружен осел.
Арабелла остановилась и огляделась. Теперь сердце ее билось не так бешено. Ей удалось проникнуть за ворота тюрьмы, и увиденная картина казалась вполне обычной, если бы не мрачное здание, на фоне которого развертывалась торговля. Она выбрала группу жандармов, сидевших в тени возле закрытой двери у левой стены узилища, направилась к ним, кокетливо покачивая головой, и, приблизившись, сделала реверанс.
– У меня свежий хлеб, citoyens[12], – су за каравай, два за бриошь, – сказала она, поднимая салфетку, чтобы показать хлеб. – Все только что из печи.
– Ты сама лакомый кусочек, citoyenne[13], – сказал один из мужчин, сделав ей знак приблизиться взмахом своей скверно пахнущей трубки. – Давай-ка заглянем к тебе в корзину.
Показать ему содержимое корзины означало наклониться и продемонстрировать грудь чуть ли не до сосков. Но она, не дрогнув, проделала это, улыбаясь, как надеялась, зазывно и обольстительно. Она выглядела именно такой женщиной, какой ей надлежало быть, готовой к тому, чтобы ее слегка ущипнули или пощекотали.
Жандарм потрогал каравай, потом плотоядно ухмыльнулся, глядя на ее груди.
– Славные сдобные булочки, – сказал он своим товарищам, все еще ухмыляясь. – Поглядите, какие они свежие.
Он засунул руку ей за вырез, она почувствовала прикосновение его грязных пальцев, нащупавших ее соски.
Арабелла отскочила с криком притворного негодования:
– Право же, citoyen, не дело так обращаться с достойной замужней женщиной.
– Так ты замужем? – спросил один из жандармов, мужчина с густой рыжей бородой. – Тогда иди сюда, поглядим на твой хлеб поближе.
И снова ей пришлось пройти через этот унизительный ритуал. Мужчины обменивались скабрезными шуточками и замечаниями, к счастью, не требовавшими никаких сложных и длинных ответных высказываний. Поэтому она лишь осаживала их, улыбалась и бормотала нечто, означавшее протест, что только пуще веселило их.
– Ну ладно, давайте-ка купим парочку этих рогаликов, – сказал наконец рыжебородый.
Он подмигнул своим товарищам:
– К ним прилагается славный кусок колбасы.
Это высказывание вызвало грубый раскатистый смех, и Арабелла решила, что с нее хватит. Она вытащила рогалики из корзины.
– Одно sou за пару, citoyen.
Он протянул ей мелкую монетку, и она с льстивым видом повернулась к остальным:
– Свежее этих у меня нет, citoyens.
– О да, – сказал один из них с похотливой ухмылкой, показывая пустой рот, в котором красовался только один передний зуб. – Но ты не такая уж свеженькая булочка, citoyenne. А?
– Су за один каравай, – сказала Арабелла, протягивая ему багет.
Игры были окончены, и остальные принялись раскупать у нее хлеб, к ним присоединились другие жандармы, и когда в ее корзинке остались одни крошки, она сказала:
– У меня есть еще вчерашний хлеб. Смогу я как-нибудь от него избавиться?
Она показала рукой на дверь тюрьмы за своей спиной.
– Кое-кто будет рад ему, – сказал жандарм с одним зубом.
Он пожал плечами:
– Не вижу в этом вреда. Но вход только в женскую часть тюрьмы, запомни… и будь осторожна, чтобы они не слопали тебя заживо.
Он хмыкнул и смачно высморкался, зажав нос между большим и указательным пальцами.
– Но за это придется заплатить, citoyenne, – сказал первый жандарм, поднимаясь на ноги. – Сначала поцелуй.
Его дыхание было зловонным, от него разило винным перегаром, чесноком и табаком, а рот оказался влажным. Он ухватил ее за ягодицы и прижался губами к ее рту. Она задержала дыхание и вытерпела. Наконец он выпустил ее и дал ей пройти.
– Сюда.
Он кивком головы указал на дверь в противоположной стене, и она последовала за ним через запруженный народом двор.
Он поговорил с каждым из двух жандармов, охранявших вход в тюрьму, один из которых ковырял в зубах, а другой задумчиво исследовал свою бороду в поисках вшей. Они оба кивнули. Один из них плюнул на булыжник двора себе под ноги и отпер дверь огромным ключом, свисавшим с пояса. Он махнул Арабелле, приглашая ее войти.
Дверь звякнула, закрываясь за ней. Она услышала скрежет ключа в замке и подумала, что пропала. Как она выберется из этого места? Никто не сообщил ей этого. Что, если все они уйдут и забудут о ней? Какое им дело до нее? Будет ли гнить одной заключенной больше или меньше, не все ли им равно? Но она сказала себе, что они видят в ней себе подобную. Жандармы считают ее труженицей, citoyenne, не чуждой небольших галантных развлечений.