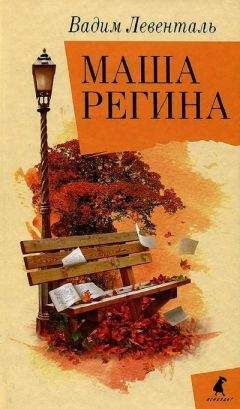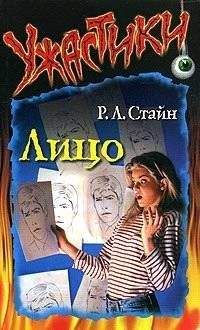— Ну конечно, — Стива тянет издевательски, напоминает мне меня же, — зачем ей знать, что тебя хотят на пару лет упечь в тюрягу. Вот скажи, чего вдруг спустя три года эта сука опомнилась? Почему сейчас?
Риторический вопрос.
И ответа у меня нет.
Человеческая душа — потёмки, как сказал днём Густав Сигизмундович, вертя в руках мою подписку о невыезде и повестку в суд, рассматривал документы чуть ли не с лупой и седые брови неодобрительно хмурил.
— Может поговорить с ней?
— Густав Сигизмундович запретил, — я мотаю головой, тянусь за бутылкой, ибо напиться до положения риз хочется сильно.
И поводов для сего желания хватает с лихвой.
— Общение с Ангелиной Геннадьевной может только усугубить ситуацию, — слова Плевако двадцать первого века я повторяю дословно.
А Стива глумливо передразнивает:
— Ангелина Геннадьевна. Ангелина, чтоб её… — он бормочет ожесточенно, осекается, хмурится и голову вскидывает резко, щелкает пальцами. — Погоди… там ведь ещё одна медсестра была… Точно! Ну эта… как же…
— Олеся? — я переспрашиваю рассеяно.
Хмурюсь.
И память, как растревоженное улье, жалит, уносит в прошлое, показывает перед глазами заплаканное лицо Олеси.
Рассеченный висок.
И рыдания, от которых она сотрясается всем телом, сгибается пополам на скрипучем школьном, не пойми откуда взявшемся, стуле в холодной процедурке. Особо рьяные борцы за справедливость подкараулили её по дороге на работу, кинули пару камней и… попали.
— Олеся уехала, — бренди воспоминания глушит, выжигает, дает говорить, — и даже если бы я знал куда, то всё равно не стал бы снова втягивать её в это.
Она не заслужила.
Ей и так досталось… больше всех. Некрасивая история оставила некрасивый шрам на лице, сделала её семилетнего сына заикой, и уехала Олеся сразу после последнего заседания и моего оправдательного приговора.
— Не будь идиотом, Лавров. Тебе нужны её показания.
— Я все же надеюсь, что меня оправдают и без них, — я невесело хмыкаю, — свидетели и кроме Олеси есть. Я не виноват.
— Не виноват, — Стива соглашается легко, — только, когда ты обкалывал парня, с тобой рядом были лишь она и Ангелина Геннадьевна.
Которая вдруг раскаялась и призналась, что убитая горем мать три года назад была права: Лавров препараты перепутал, убил ребёнка и промолчать уговорил.
Тогда.
А сейчас пришла совесть.
И вина.
— Есть же такие твари на свете, — Стива ярится, ударяет кулаком по столу. — Нет, ну вот, ты мне скажи, зачем она врёт, Кирюха, а?
— Спроси, что полегче, — я отзываюсь устало.
И бренди плещу, пью, как воду, потому что допиться до положения риз сегодня, видимо, не получится. Не берёт огненная вода, остаётся холодная ясность ума.
— Ты с ней быстро перепихнулся и сразу некрасиво бросил, а она озлобилась и, помня, что блюда подают холодными, решила отомстить только сейчас?!
— Я не сплю с медсестрами, Стива.
— Так может, в этом корень её обиды? — он хохочет, думает не больше минуты и сказанное, заставляя поморщиться, опошляет.
Морщится сам, поскольку телефон разражается «Бурей» Бетховена, за которой следует голос Ани, что благословить нас на кутеж до утра категорически отказывается.
И во вся тяжкие не отпускает.
— Ты злая, Нюся, — Стива заключает печально.
Но такси вызывает.
И к благоверной, беря с меня на прощание клятву никогда не жениться, покорно отбывает, я же возвращаюсь в кабинет.
Приговариваю окончательно бутылку, вот только… не помогает.
Не даёт забыться.
И думать получается слишком отчётливо и трезво. Отгонять мысли о предстоящем суде и ребенке, которого мне спасти не удалось — не завелось в третий раз сердце… и осознание, что — всё, пришло даже раньше, чем мы прекратили реанимационные мероприятия и в зале на затянувшееся мгновение повисла тишина…
Нет.
Вспоминать, останавливаясь взглядом на кресле, лучше Дарью Владимировну, что в этом самом кресле сидела пару часов назад.
Смотрела на меня настороженно.
И начать разговор под внимательным взглядом медовых глаз было сложно, не получалось сказать, что альтернативу детскому саду для сусликов я нашёл, а посему больше в её помощи не нуждаюсь.
Поэтому начал я с другого… а Дашка — Дарья Владимировна — перебила, засияла улыбкой и радостно уверила меня, что после обеда сможет сусликов забирать. Не дала сказать, что забирать их согласилась Аня, которая временно работала на полставки и к часу дня была свободной, как ветер.
Я же промолчал.
И потащился с Дарьей Владимировной в аэропорт, потому что отпустить её одну на такси за город у меня не получилось.
Далеко.
Небезопасно.
На мой машине надежней.
И она сдалась, согласилась неохотно, и настроение после неприятного разговора с Густавом Сигизмундовичем улучшилось, захотелось шутить и смеяться, ибо солнечная улыбка развеяла тучи над головой, осветила, как яркое солнце.
И сама Дашка похожа на яркое солнце, что озаряет даже самый пасмурный день. Вот только, не моё она солнце и смотреть так, как смотрел я на неё в детской, было нельзя.
Нельзя было представлять.
Воображать.
Она не для меня, и у неё есть смазливый мажор, который по возрасту Дарье Владимировне подходит гораздо больше, не имеет темных историй в прошлом и тюремным сроком ему никто не угрожает.
— Она его любит, Лавров, — вслух убеждать себя выходит гораздо лучше. — Она любит, выйдет замуж и родит ему крошечных мажоров с глазами цвета меда.
Будет счастлива.
А значит, можно радоваться.
Не беситься от самого факта существования мажора с дебильным именем Лёня и чёртовым вопросом, когда появилось накарканное Куличем личное отношение, в миллионный раз не задаваться. Не думать о Дарье Владимировне, которую по имени-отчеству звать все труднее и которую до физической боли хочется поцеловать.
Узнать какие у неё губы на вкус.
Стащить футболку с идиотским принтом, кои Дашка так обожает, и вечно дранные джинсы, уложить на стол или прижать к стене, войти и сделать своей, чтобы мои, а не мажора прикосновения она помнила и хотела, чтобы думала и…
— Чёрт… — я ругаюсь приглушенно.
Расплескиваю остатки бренди, и витиеватые слова вместе с досадой тонут в настойчивой трели дверного звонка, что в четвертом часу утра звучит гулко и тревожно, заставляет выбирать между что-то забывшем Стивом и заболевшей Аллой Ильиничной.
Ошибаться.
Потому что на пороге квартиры стоит Дарья Владимировна.
Босиком.
Держит ярко-красные туфли на запредельных по высоте каблуках в руках, тянется, продолжая вдавливать кнопку звонка, отчего и без того короткое черное платье задирается ещё выше, обнажает кружевную резинку чулка.
И в голове от вида кружева и полоски светлой кожи перемыкает, пересыхает во рту и перед глазами всё темнеет.
От желания.
Что, казалось раньше, не может быть таким сильным.
— Штерн? — я шиплю придушенно.
И воздуха, ставшего вдруг раскаленным, перестает хватать, разлетаются вдребезги все хорошие правильные мысли и умные вопросы, которые выговорить связано все равно не выходит, исчезают.
Остается только Дашка.
Её греховный наряд.
Копна чёрных распущенных волос.
И ярко-красная помада на сводящих с ума губах, что соблазнительно изгибаются, а Дашка покачивается, поднимает на меня янтарные глаза, в которых искрится вызов и непонятная решительность.
Мурлычет:
— Не осуждайте нас, живем один лишь раз, качает бит и бас нас этой ночью…
Она шагает ко мне, бросает туфли куда-то на пол, и их стук вторит грохоту закрытой не глядя двери.
— Дашка…
— Нас не остановить, мы не хотим грустить, — Дашка улыбается порочно, подходит вплотную, обдавая ароматом дурманящих духов и своим личным запахом лета, встает на носочки, обвивая руками шею, смотрит пристально в глаза, выдыхает в самые губы, — на все забить, забыть и делать все что хочешь…
Хочешь.