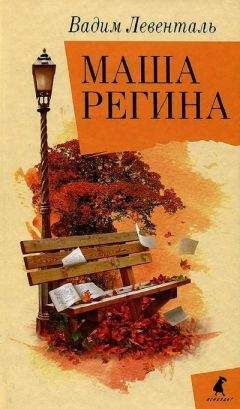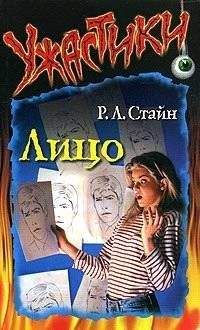Останавливаю.
— Ште-е-ерн, — её фамилию я тяну со странным удовольствием, улыбаюсь хищником, что с жертвой определился, и давно замолчавший телефон, дабы не мешал, в карман сую, — ты-то мне и нужна! Про должок помнишь?
Помнит.
Морщится, дергается, но я удерживаю крепко. Так просто Дарья Владимировна от меня не убежит.
— Да, — она сдается, буркает недовольно, смотрит исподлобья.
И улыбнуться, чувствуя, как неожиданно поднимается настроение и пропадает сонливость, хочется сильно, рассмеяться непонятно чему.
Впрочем, есть чему.
Няню на месяц своим милым племянникам я, кажется, нашел. И можно похвалить себя за ту необдуманную и забытую фразу про должок.
И за решение не сдавать ходячий детский сад Лопуху.
— Вот и хорошо, что помнишь, — я ухмыляюсь. — Жду тогда тебя завтра у себя дома.
Я выговариваю и живой мимикой Дарьи Владимировны наслаждаюсь. Слежу, как удивленно расширяются и без того большие глаза, вспыхивают яростью, когда Штерн, явно складывая два и два, получает пять и доходит до мыслей о сексе.
Спасибо Куличу.
Слухи, что я сплю со студентками, пошли с его легкой руки, которая благодаря мне и гипсу на несколько недель стала очень тяжелой, но… особо одаренных студенток из кабинета пару раз пришлось выставлять и с Лопухом объясняться.
Сожалеть, слушая Вадима Вадимовича, что Куличу я врезал мало.
Следовало добавить.
— Дарья Владимировна, не задохнись от возмущения, — я пренебрежительно хмыкаю, поскольку Штерн уж точно не моя сексуальная мечта, — детский сад меня не привлекает. И со студентками, вопреки слухам, я не сплю. И я не договорил, жду тебя, чтобы…
Она подозрительно щурится, а я замолкаю.
Осекаюсь на середине фразы и раскрывать все карты передумываю. Детский сад слишком комичен и помучить её хочется.
Пусть гадает.
— Хотя… знаешь, Штерн, — смех у меня все же вырывается, а Дарья Владимировна обижено надувается, — я, пожалуй, сохраню интригу. Завтра в девять. Адрес скину.
Буду ждать.
И в общем-то даже верить, что с пятилетними монстрами Дарья Владимировна справится и общий язык найдет.
Уровень развития у них одинаковый.
Шесть
Июль
Личное.
Отношение.
Когда оно появилось?
Когда Дарья Владимировна перестала быть раздражающей занозой? Когда она перестала казаться лишь взбалмошной, ветреной и поверхностной девицей без грамма ответственности? Когда она перестала быть… чужой?
Стала важной частью моей жизни.
Неотъемлемой.
И кофе по утрам без неё уже не пьётся, не варится, потому что колдовать над джезвой, смешно напевая и пританцовывая, теперь может только она.
Её кофе вкусней.
Лучше.
И сама Дарья Владимировна оказалась лучше, чем я думал. Сложней, чем все задачи тысячелетия, вместе взятые. Многогранней, чем только можно было представить и узнать за целых полгода нашего знакомства и еженедельных встреч.
Она удивляла.
Раз за разом.
Рушила, сама того не понимая, день за днём моё представление о Дарье Владимировне Штерн, разрывала шаблоны мироздания и привычную картину мира, вызывала сумасшедший шквал эмоций и чувств.
Душевный раздрай.
Страх…
…когда, выломав дверь ванной, я нашел её на полу без сознания, позабыл, видя прилипшие к бледной коже мокрые пряди волос, на миг всё, чему учили долгие годы и что вдалбливали лучше, чем «Отче наш».
И сердце впервые болезненно ухало, пока я нёс Штерн на диван, приводил в чувство и в больницу к Стиву, ощущая свою вину, ввёз. Ждал вердикта лучшего нейрохирурга в городе, дабы убедиться, что с Дарьей Владимировной всё в порядке.
И самую идиотскую сделку в своей жизни разорвать.
Послать гулять Штерн на все четыре стороны и никогда её больше не видеть, не ловить себя на улыбке от воспоминаний, как она выглядела с перепачканным мукой носом и сгоревшей курицей в руках.
Изумление…
…когда гулять она не согласилась.
Отказалась аннулировать нашу глупую сделку. Отчитала меня, пылая гневным румянцем, сверкая яростно глазами и пряча в голосе странную боль.
И на утро она явилась опять.
Смех…
…когда Дарья Владимировна позвонила в середине рабочего дня, отвлекая от поганого настроения и ругани, и обиженным голосом объявила, что они заблудились в центре города.
По дороге в зоопарк.
И не по годам умные монстры, коих она смешно называла сусликами, поставили ей топографический кретинизм. Обиделась еще больше, когда с диагнозом я согласился и рассмеялся.
Замешательство…
…когда она вышла из ванной со сметанной маской на лице, вручила невозмутимо мне пустую банку…
…и когда, оказавшись слишком близко, закручивала деловито и ловко ненавистные запонки, улыбалась беззаботно.
Восхищение…
…когда Дарья Владимировна защищала сусликов, что с соседским ребёнком подрались, наступала на меня. И наказывать их она запрещала.
Надвигалась на меня разъярённым воробьем.
А потом испуганно пятилась.
И мысли, рассматривая прижатую к столу Дарью Владимировну, тогда мелькнули совсем неправильные.
Недопустимые.
Как сегодня.
В кабинете и сейчас, когда я оказываюсь в третьем часу ночи под окнами её дома, точно зная, что Дарья Владимировна поедет домой.
Одна.
И мажора здесь не окажется, потому что сегодня лишний он. И в кабинете, где враз стало нечем дышать, она смотрела на меня. Прожигала медовыми глазами, и закончить разговор на немецком под её взглядом оказалось невыносимо сложно.
Забылись все слова.
Важным оказалось совсем другое.
И перестать думать, какими станут медовые глаза, если поцеловать и раздеть Дарью Владимировну, не получается даже сейчас. И сигарета уходит за сигаретой, пока я, сидя в машине, всматриваюсь в горящие окна её квартиры.
Все же поднимаюсь.
Вдавливаю кнопку звонка до предела.
Вытаскиваю очередную сигарету, чтобы закурить и прислониться затылком к холодной стене, что от фантазий — совсем не детских — своим холодом не спасает.
Не остужает.
И приезжать, пожалуй, не стоило и подниматься, тем более, не стоило. Разговор и объяснение подождали бы утра, но… уйти я не могу, не хочу и мне нужно её увидеть.
Поговорить.
Просто.
Я не прикоснусь к ней.
Она ведь любит своего смазливого мажора, от одного имени которого меня корежит. И Дашка — как хочется и нельзя даже мысленно называть Дарью Владимировну — не виновата, что моё отношение к ней стало личным.
Что мне важно, чтобы она сейчас открыла.
Пусть это и будет неправильным и неразумным, но я жду, разглядываю противоположную стену и на уровне шестого чувства знаю, что она стоит по ту сторону двери.
Колеблется.
Решается.
Всё же открывает, смотрит настороженно и пристально.
И первым заговариваю я:
— Все-таки открыла.
— Самонадеянно.
— Думаешь? — я усмехаюсь.
А Дарья Владимировна приводит очень весомый аргумент:
— Открыть могли родители…
— Они в Карловых Варах, — я её перебиваю.
Напоминаю.
Получаю в ответ раздражающее напоминание о мажоре:
— … а я здесь не живу.
— Я заметил.
Усмешка выходит кривая, и я поворачиваюсь, рассматриваю её, непривычно… домашнюю, без макияжа, в огромной мужской — мажора? — рубашке и с торчащим из заколотых волос карандашом.
В нелепых тапках с розовыми единорогами.
И Дарья Владимировна с ноги на ногу под моим взглядом неловко переступает, отступает вглубь квартиры, и дверь, заходя, я захлопываю сам.
Предлагаю любезно:
— Поговорим?
Обсудим услышанный ею разговор, что велся на немецком, но… Штерн поняла. И глаза цвета мёда расширились, сожгли дотла и понимания, что она мне нравится, пока я закруглял беседу с Ли.
Смотрел на Дарью Владимировну.
Что кинулась прочь.
И не побежать за ней следом было сложно.
— Die Ware — это товар, der Grenze — граница, — Дарья Владимировна заявляет уверенно, подходит почти вплотную и голову вскидывает.