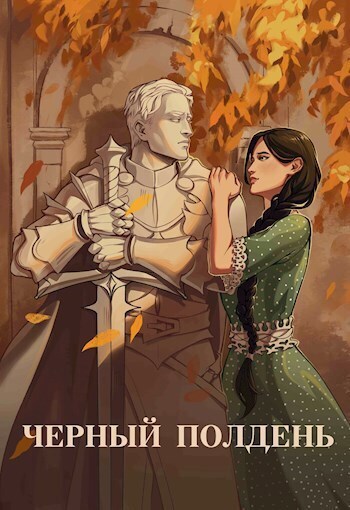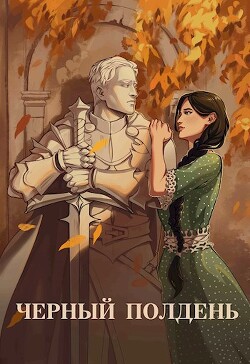один только голый, мёртвый камень, и больше ничего не было. Тогда мы научились слышать изначальный язык, тогда мы научились плести из своей крови и своего дыхания чары, тогда мы обрели своё могущество и построили тот мир, который и есть у нас сегодня.
Мы меняли его, — и менялись сами, конечно.
Мы — продукт всего того, что с нами случилось; мы воспитаны знанием о том, кем мы должны быть; вместе с тем мы — это, по счастью, ещё и просто мы.
Здесь Става поморщилась, как будто у неё заболели зубы, а я нахмурилась. Истории о старых временах я знала другие, — в чём-то похоже, может быть, но другие, — но на то она, в конце концов, и незапамятная древность, чтобы ничего о ней не было известно наверняка.
В чём все эти пересказы сходились, так это в том, что наш мир соткан из катастроф. Череда ужасных, чудовищных событий — и вместе с тем колоссальных изменений и огромных неотменяемых решений, после которых одни законы сменялись совсем другими.
Колдуны придумали себе Рода, острова и море, полное чудовищ, а ещё живущий в крови Долг и вечную кару за то, что ты ему не следуешь. Двоедушники создали Долгую Ночь, и Охоту, и парность, и то, что судьбу можно поймать за хвост, а потом всего лишь ей следовать.
А лунные… что же до лунных, мы привыкли думать, что они были раньше, древнее. И в каком-то смысле, конечно, в этом была правда. Потому что первые из них были не больше и не меньше — голосами предков, призванными из Тьмы.
Те, кто были до нас, кто помогал советом и делился знанием, кто давным давно должен был упокоиться в тишине, — иногда они говорили с нами из серых теней. И когда-то мы так захотели увидеть их рядом с собой, что попросили Бездну дать им право вернуться.
И они вернулись — прекрасными видениями, чистыми образами, оторванными от телесности, больше сказкой, конструктами, абстракциями, чем людьми. Они жили среди нас, будто овеществлённые чудеса.
Если бы о детях Луны говорила Юта, она сказала бы значимо: мы дети Луны, Олта, а не Солнца.
Наш свет отражённый, сказала бы она.
Ставе была чужда поэтика, и её история была больше про человеческую глупость, за которой неожиданно было видеть чудную, возвышенную красоту.
Чем дальше, тем больше в возвращённых духах было человеческого, и тем больше мы забывали видеть в них воспоминания. Они стали называться детьми Луны, рождёнными из людских слёз, как сама Луна сделана из слёз одинокой Тьмы.
В начале их было совсем немного, быть может, несколько дюжин, — лунных и сейчас так мало, что многие люди проживают целую жизнь, никого из них не встретив. Они возвели в горах свои хрустальные друзы, а однажды стали достаточно людьми, чтобы научиться любить.
Есть ли горе большее, чем быть бессмертным и полюбить человека?
Старое колдовство, что создало первых из детей Луны, совсем к тому времени истончилось. Тогда они снова обратились к Бездне и научились выбирать себе хме.
Однажды за всю свою бесконечную жизнь лунный может теперь назвать своего хме. Умирая, хме возвращался в тело, напитанное светом Луны, и рождался из этого света заново — чтобы стать лунным и однажды выбрать своего хме.
— А как же… прошлый лунный? То есть это ведь, получается…
— Ай, да кто их разберёт!
Става замахала на меня руками и скривилась: любовь лунного — чудовищно странная штука, ты-то уж должна знать! Кого они только не любят!..
Бывало, конечно, что лунный называл хме возлюбленного, а затем чувство между ними погибало. Но бывало, по правде, много как ещё: дети Луны называли своими хме и друзей, и коллег, и детей из человеческого прошлого, и любимых художников, и даже кошек. Хме — это выбор; хме — это тот, с чьей смертью ты не можешь смириться.
Их очень мало, этих лунных. Они живут в загадочных горах, говорят странное, и, как говорят люди, близки к богам. Кто уж разберётся в десятках ни на что не похожих историй, если новые лунные рождаются не чаще нескольких раз за столетие?
Здесь Става подняла бровь, а я посмотрела на свои руки.
Руки как руки, обыкновенные. Человеческие. Не прозрачные и не сияют. Ноги покрыты гусиной кожей, на мизинцах искривлённые маленькие ногти, на пятках шершавый натоптыш. Ноги и ноги, ничего волшебного.
У меня в груди не было ни следа раны, но кровь лилась откуда-то, липкая и бурая. Става пояснила недовольно: ты, может быть, и живёшь дальше, но что-то в тебе помнит. Часто бывает, что что-то в лунном раз за разом возвращается в то состояние, и в этом нет вроде как ничего страшного — но всё равно принято скрывать… проявления.
Теперь кровь из раны, которой не было, заливала платье и грозило заляпать оранжевый жилет.
Чёрные волосы вились среди синих цветов. У меня всегда были длинные волосы, крепкие и густые, коса до пояса, девичья гордость. И всё-таки до полу они никогда не дорастали, да и блестели, честно говоря, не так, и локоны эти…
Потом я догадалась поймать своё отражение в хрустальной крышке — и поняла, что в глазах моих нет белка, и что они светятся.
— Получается, я действительно у… — выговорить, почему-то, никак не получается. — Получается, они все у… то есть, они все мё…
Слова застревали в горле и никак не желали из него выходить.
— Да, — Става кивнула. — И не старайся, об этом нельзя сказать вслух, все лунные издревле связаны обязательством молчать о своей природе.
Наверное, оттого и говорили лунные всё больше о свете, пробуждении и тайных именах.
Порой лунные менялись при перерождении до неузнаваемости: двоедушники теряли зверей, колдуны забывали кровь, тела становились странными, а у одного из лунных и вовсе была, говорят, бычья голова. Бывало и так, что они оставались точно такими же. Кто-то растворялся в свете всего за десяток лет, а кто-то — мог веками «сохранять к жизни вкус».
Я вспомнила зеркало и кивнула.
— А теперь, — Става хлопнула в ладоши, — нужно придумать тебе лунное имя. И подождать, пока все вокруг, кроме избранных, забудут девятое.
— Имя?..
— Новое имя! Старое будет теперь девятым, первое с годами дадут люди по деяниям, второе… тьфу, запуталась. Сейчас нужно придумать второе, самое простое, какое понравится. Ну, чтобы не ходить безымянной. Есть у тебя там какое-нибудь? Ну там, из детских игр, или я не знаю…
В детстве я играла в разные игры, но