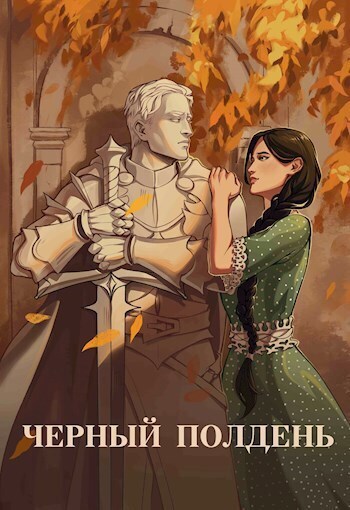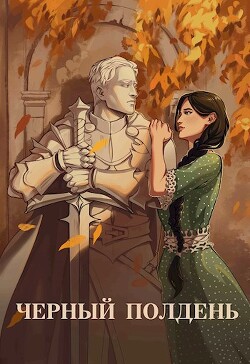новых имён ни в одной из них не придумывала. А теперь меня и узнавать, наверное, перестанут… Гаю надо написать. Только придумать, что.
В голове было пусто-пусто. Потом я спохватилась:
— Если я теперь лунная. Значит, Дезире, он… сделал меня…
Става закатила глаза:
— Да, да, только умоляю, избавь меня от розовых соплей! Конечно, он назвал тебя хме, а ещё клялся в вечной любви, целовал бездыханное тело и рыдал над саркофагом, или как там у вас это полагается!
Я смешалась и зябко обняла себя за плечи.
Право слово, я этого не хотела. Я просила не для себя; он не был мне ничего должен…
— Все вот эти вот глупости, — Става сделала широкий жест, как будто бы глупостью я была вся целиком, — ты их выброси. И давай соображай быстрее, что тебе ещё объяснить? Неси сюда все свои вопросы, пока я добрая!
— Погоди, — я вдруг осеклась. — Но почему вообще… ты? Ты же никакая не лунная! Ты ведь… разве не так?
Става усмехнулась криво, отвела взгляд, побарабанила пальцами по металлу. А потом сказала медленно, растеряв вдруг всё своё бойкое раздражение:
— Видишь ли… это не такой простой вопрос, как тебе кажется.
Люди смертны, вот в чём загвоздка. И иногда это причиняет такую боль, что…
Людям многое причиняет боль. И часто — о, куда как чаще, чем стоило бы! — люди решают, будто знают, как можно исправить самые глубинные из несправедливостей. Люди убивают ради свободы, льют кровь ради жизни, умирают сами ради высших целей и верят, будто знают, что из этого выйдет.
Смешно, не правда ли?
Ещё смешнее, что иногда у них получается.
— Великое часто оказывается человеческим, — печально усмехнулась Става.
А потом вспомнила о своей маске смешливой девочки, глупо улыбнулась и заговорила дальше.
Её отцом был конь, а матерью — ворона, и у них было своё семейное дело, стеклодувная мастерская, где делали вазы удивительной красоты. Става была совсем маленькой, когда вся их семья по особому приглашению уехала в горы, где поселилась в двоедушном городке при друзах и создавала прекрасное.
Ставе никогда не нравилось стекло. И все эти вычурные формы, полное отсутствие красок, скупое изящество лаконичных линий. Красиво, бесспорно, но иногда девочке хочется быть просто девочкой и носить цветастые сарафаны, не правда ли? Она и носила, всем назло, и бесила своим цветущим видом и семью, и половину города.
Конечно, она переросла бы однажды этот дурацкий конфликт. Если бы только не заболела.
Люди болеют; такова часть природы. И тринадцатилетние девочки иногда болеют тяжёлыми, плохими болезнями, слабеют, падают в обмороки и худеют до страшного.
Её лечили так, как может медицина. Сперва прогнозы были весьма оптимистичны, а потом становились всё хуже и хуже. Отец нашёл даже возможность погасать Меленею колдуну из целительского рода, но тот покачал головой и признал, что даже его чары будут здесь бессильны.
Меленея умирала, не успев даже поймать зверя. А как она мечтала тогда о лисе!..
Следующей осенью семья переехала в Марпери, в синий дом с коньком в виде рыбы, потому что за перевалом Марпери была, как говорят, невероятно закрытая и удивительная лечебница; отец повесил под грушей качели, и Меленея сидела на них часами, раскачиваясь и глядя, как плывут облака. Потом мама привезла из той лечебницы микстуру — золотую пыль, которую разводили в воде, и вода становилась чёрная-чёрная.
Верила ли Меленея в эту микстурку? Не слишком, и лучше от неё всё никак не становилось. Меленея была заперта в тёмном доме, среди стеклянных ваз и скрываемых слёз, злилась на суку-судьбу и никак не могла осознать происходящее.
А в Долгую Ночь, хотя отец был категорически против, мама втайне от него отвезла дочь в храм.
Она поднялась по ступеням босой, — кое-как, как могла, стиснув зубы и опираясь на трость. Поклонилась гобеленам Полуночи. Испила серебряной воды из зачарованной чаши.
В Долгую Ночь мы раскалываем свою душу и меняем её половину на шанс поймать свою судьбу. И одна Меленея, лёгкая и свободная, побежала по призрачной дороге через горящее огнями небо, а другая — осталась тенью, вырванной силой колдовства из лиминала.
— Не смотри на неё, — сказала мама, когда новая, взрослая Меленея-двоедушница рухнула в снег. — Никогда на неё не смотри.
Золотой порошок ей дал жрец Луны, взяв за него плату крысиными деньгами. Он сказал что-то про эксперимент, Бездну, хме, расщепление и много других слов; он же объяснил: может быть, нам удастся отделить от неё смерть.
— Так она ждёт тебя, чтобы…
— Когда придёт моё время, — Става кивнула, — мы встретимся снова, и она заберёт меня дальше.
Я потёрла пальцами виски. В голове гремело. Там, в невозможном тумане, который мне приснился, я спросила у Дезире:
Так лунный — это чья-то смерть?
И он сказал мне, усмехнувшись:
Разве что своя собственная.
А я-то сама теперь… кто? Та Олта-из-тумана, которую прошлая я взяла за руку? Или я — всё ещё старая я, только…
— Не думай об этом, — очень серьёзно посоветовала Става. — Поверь мне, ты ни до чего не додумаешься! Мы не можем знать до конца, как устроен мир, потому что тогда в нём не останется никакой магии, понимаешь?
Голова у меня раскалывалась. Разве может вообще у меня теперь болеть голова? Это ведь голова, сделанная из света!..
Става тем временем рассказывала легко, как смешную байку о давно раскрытом деле, как узнала о взрыве в Марпери. И, может быть, для всех остальных это была катастрофа на перевале, но для Ставы слухи о крысиных деньгах и чёрной молнии не были слухами.
Когда-то бесконечно давно Полуночь создала Охоту, и вместе с ней родился новый мир, в котором не было клановых войн и судьбы, определённой от самого рождения. Великое, великое изменение, за которое Полуночь стала считаться богиней; вот только полюбила она отчего-то — врага и преступника, и его же назвала своим хме. Когда кто-то — Большой Волк ли, или, может быть, тот, кто нёс белый меч Усекновителя задолго до наших времён, — убил Крысиного Короля, Крысиный Король стал лунным. И много, много лет жил в далёких таинственных горах, пока в конце концов не возомнил себя целителем и не решил, что ему должна подчиниться сама смерть.
Тогда, пятнадцать лет назад, за ним пришёл Дезире. Чёрная молния разбила небо над Марпери, и Крысиный Король был убит до конца. А ослеплённая гневом Ллинорис повелела запереть Усекновителя в мраморной статуе.
Става знала только, что золотая