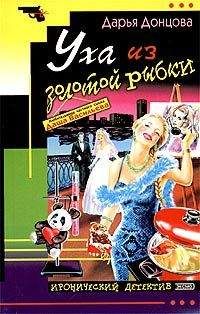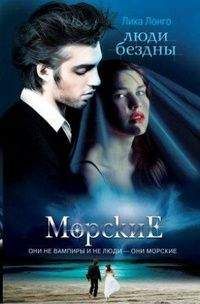Поселившийся в груди страх, к сожалению, твердил об обратном: все так, как он сказал. Я верила каждому слову. Я видела столб дыма над Городом… Я еще не понимала, что моего дома больше нет.
— Вали отсюда.
Я опешила:
— Что?
Мальчишка не шутил. Стоял передо мной, уперев руки в бока:
— Вали отсюда. Мне тут только инперцев не хватало.
Я покачала головой:
— Они не придут сюда.
Клоп зло хохотнул:
— Они придут куда угодно, если захотят. Уж не знаю, какой шишке ты так нагадила, что подняли на уши весь Город. Но, если на то пошло — они станут рыть носом песок, но найдут тебя. Поверь. Мне здесь не надо этого дерьма!
Я лишь глупо мотала головой, будто этот нехитрый жест мог отвести все то, о чем говорил мальчишка.
— Вали, или я сам сдам тебя. За десять тысяч.
— Ты же сам скрываешься.
Клоп зло хохотнул:
— Похоже, мои грешки перед Империей не в пример меньше твоих. Без обид, сестренка, но каждый сам за себя. Сама знаешь.
Я опустила голову. Знаю. Мальчишка прав, его и обвинить-то не в чем. Я знала, что они придут. Не знала зачем, но это теперь почти не имело никакого значения. Ничем хорошим все это не кончится.
Я подняла голову, стараясь поймать его взгляд:
— Но, куда я пойду?
Клоп пожал плечами:
— Не знаю. Куда хочешь.
— Кругом мертвая пустыня.
— Забирай всю воду, что у меня есть, и уходи. Они первым делом придут сюда — больше некуда. Если найдут нас вместе — мне хана. Даже разбираться не станут.
Я молча надела сапоги, привычно проверила нож в голенище. Поднялась и свернула подстилку:
— Но, если они придут сюда — тебя все равно найдут.
Клоп кивнул:
— Найдут. Но тратить на меня время не станут. Я скажу, что хотел получить десять тысяч и пришел искать здесь тебя. Мне поверят. Ты не видела, что в Городе творится. — Он хмыкнул: — Не хотел бы я оказаться на твоем месте, сестренка.
Он порылся в песке у резервуара и вытащил мои же фляги:
— Забирай, обойдусь дистиллятором.
Я засунула фляги в рюкзак, намотала тюрбан и свободным концом полотна закрыла лицо до самых глаз:
— Прощай, Клоп.
Он опустил голову:
— Прости. Так вышло.
Плевала я на его извинения. Я выбралась наружу и села у крышки люка, глядя на Город. Зеркальная черепица искрилась на солнце, как россыпь драгоценных камней. Над сожженными домами все еще клубилось серое марево, которое ветер вытянул длинными тонкими нитями, как волокно для пряжи. Воображение отказывалось рисовать черное пепелище с оплывшим, превратившимся в грязное стекло песком на месте моего магазина. Жилое помещение, конечно, уцелело, но я не могла думать, что больше не увижу крашеную синей краской входную дверь и жестяную бочку, под которой прятала ключ. Дверь прилаживала мама. Сама. И красила сама. Мы с Лорой тогда прибежали с рынка и перемазались. Потом долго ходили с въевшимися синими пятнами на руках. Нам было весело. Теперь весело никогда не будет.
Я огляделась: кругом лишь бесконечный желтый песок, разогретый беспощадным солнцем. Кругом лишь смерть. Медленная, мучительная. Моя.
Я надела рюкзак, спустилась с башни и пошла в противоположную от Города сторону. Высокие сапоги утопали в горячем песке, очень скоро нагрелись и истязали ступни печным жаром. Вода стремительно покидала тело, выходя потом. Ни скалы, ни валуна — лишь раскаленная желтая гладь, рябившая редкими барханами. Город исчез из виду, скрылся за пологой дюной, но я знала, что ушла совсем недалеко. Когда нет ориентиров, и путь, и время становятся бесконечными. И бесцельными.
Я опустилась на песок и уткнулась головой в согнутые руки: куда я иду? Зачем иду? Чтобы обмануть себя глупой надеждой? Я покачала головой — нет, чтобы измотать себя. Когда обессилен, измучен жаждой — больше ни о чем уже не думаешь. Я не хотела думать. Не хотела бояться. Не хотела надеяться. Но это так естественно для человека — надеяться. Я в отчаянии обрушила сжатый до боли кулак в песок, почувствовала каждую раскаленную песчинку, прилипшую к влажной коже.
Бежать бессмысленно. Имперцы не пойдут пешком. Катера, корветы — какая разница. Они покроют расстояние за считанные минуты. Что меня ждет? Что ждало бы, если бы я не попыталась бежать? Все вдруг показалось бесконечно глупым. Я понятия не имела, кто этот высокородный, но при одном воспоминании о нем меня передернуло и обдало ледяной волной ужаса. Подсознание вопило, что нужно бежать, без оглядки, как от самого страшного хищника. Оно же нашептывало, что он не отпустит добычу. Так смотрят на вещи, которые одержимо желают. Кто знает: может Вилма погибла от этих же рук.
Я слышала омерзительные рассказы о мучениях и боли, за которую имперцы платили в несколько раз больше. Раньше считала это выдумками, пока один из этих ублюдков не добрался до меня. Я помню комнату казармы, чистые белые простыни. Мне повезло, он старался быть нежным, и я терпела, глотая слезы, потому что не было выбора. Но я слышала ужасные, душераздирающие крики за стеной. Отчаянный вой, перемежающийся мольбами, удары и высокий, разрывающий уши визг, который стоит в ушах до сих пор.
Это была Вилма, жила с матерью на соседней улице. Потом я узнала, что она умерла в тот день. Мать засыпали геллерами, но зачем они были ей теперь? Тогда я поклялась себе, что со мной такого не будет, что никто без моего согласия не дотронется до меня, и на брошенные имперцем деньги купила отличный верийский нож, который, к счастью, пока так и не довелось пустить в ход.
Кажется, время пришло.
Я вновь посмотрела в сторону Города и увидела среди песка скопление движущихся черных точек — они уже здесь.
Как же быстро…
6
Имперцы приближались быстрее, чем я предполагала. Конечно, у них уже были мои координаты. Они безошибочно направлялись в мою сторону, и я уже слышала долетающий в разогретом воздухе отзвук работающих двигателей.
Дрожащей рукой я достала из голенища нож и сжала немеющими пальцами. Конечно, я не смогу перебить имперцев — я приготовила его для себя. Не дамся живой.
Я часто думала о ноже. Он всегда казался надежным решением всех проблем. Блестящий кусок верийской стали, покрытый характерными разводами, будто внутри залегли песчаные дюны. Я часто представляла, как он входит в плоть, легко, как в кусок мягкого масла, но это представление было далеким и каким-то детским. Я представляла, как совершаю красивый жест, но никогда не представляла страх и боль. Не представляла кровь. Не представляла, насколько сложно и страшно решиться.
Я поймала идеальным острием нестерпимый солнечный блик и зажмурилась — свет резанул по глазам. Я вдруг поняла, насколько слаба. Ничтожна, безвольна, труслива. Я смотрела на нож, и рукоять жгла мне пальцы. Хотелось отшвырнуть, зарыть в песок, чтобы не пришлось решаться, но руки не слушались. Я сжимала рукоять до ломоты, до боли, став с ней одним целым. Нож — продолжение моей дрожащей руки и окончание моей короткой жизни. Если хватит смелости.
Гул моторов приближался неумолимым рыком, будто надвигалось страшное ревущее животное — имперский монстр, спущенный хозяевами с цепи. Через несколько минут они показались из-за бархана. Человек двадцать на бликующих телах легких катеров — слишком много на одну несчастную жертву. Черные каски блестели на солнце. Вот и все.
Никогда не понимала, как они выживают на нашем солнце, с ног до головы замурованные в черное. Они давно должны изжариться заживо, упреть, как жаркое в горшке, помещенное в раскаленную печь. От них отплевывалось даже солнце, как от ядовитой несъедобной мрази. Рокот моторов утих, имперцы сошли на песок.
Я выпрямилась, по-прежнему стоя на коленях — не было сил подняться. Еще крепче сжала рукоять и направила острие ножа в живот, чувствуя через тонкую ткань, как металл коснулся кожи. Меня колотило, рука предательски дрожала. В ней не было силы. Я опустила голову и смотрела на нож. Пот градом стекал из-под тюрбана, разъедал глаза.
— Брось нож.