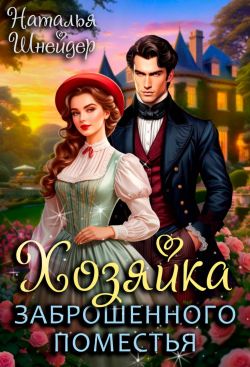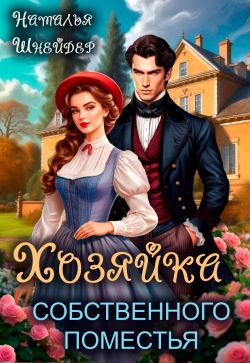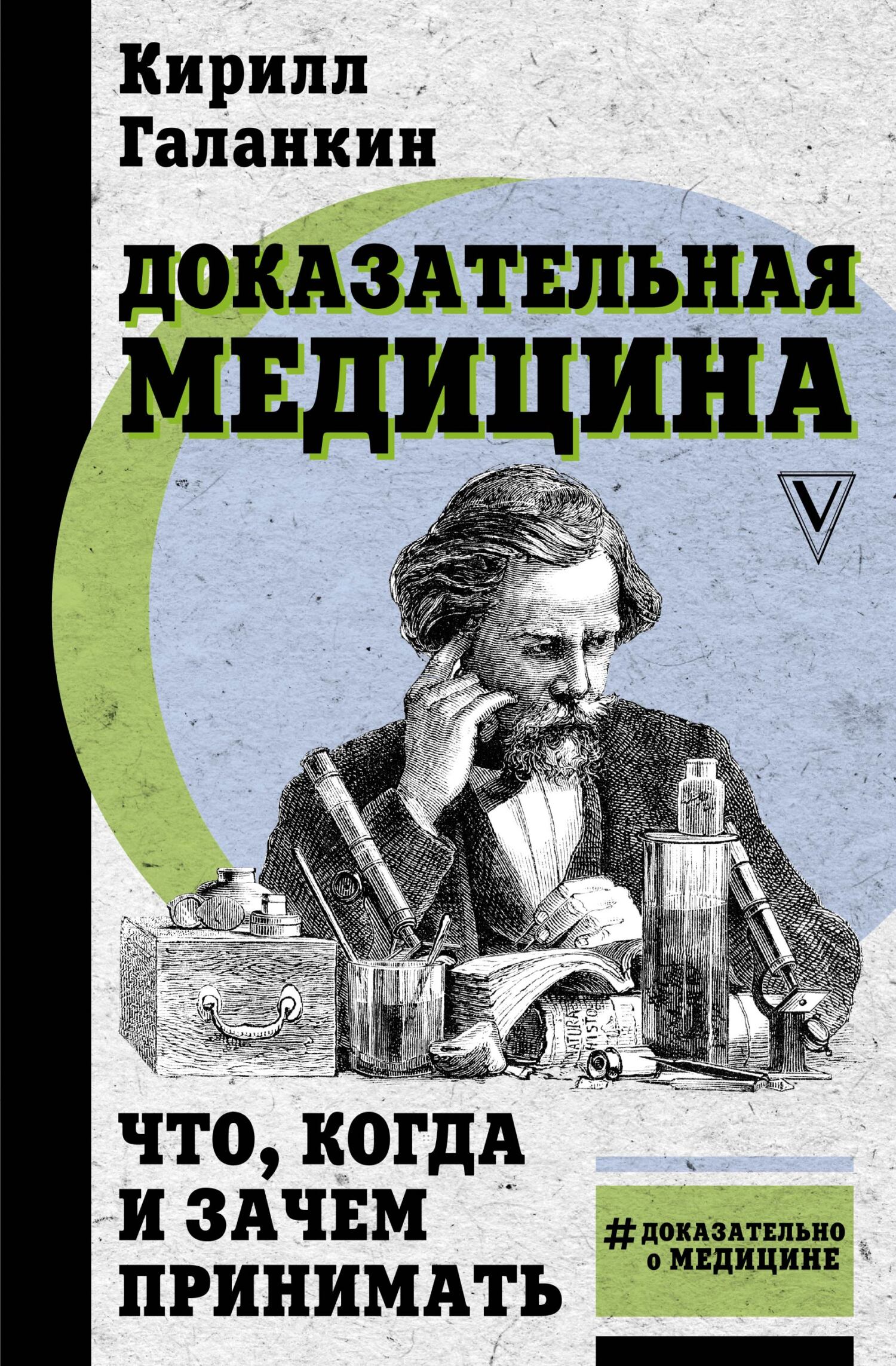черная. Пальцы — средний и безымянный, на той руке, где глаз чистый. Три восьмерки, потом три узла. Так и без заговора само пройдет. — Она откусила нитку и добавила: — Три дня не снимай, а то снова раздует.
— Ты все же заговори, баб Марья. Для верности.
Марья вздохнула. Дернула парня за лацкан шинели, заставляя нагнуться, и сунула в глаз «фигу», приговаривая:
— Ячменек, ячменек, на тебе кукиш, что себе купишь. Купи себе топорок, руби поперек. Вот так. — С этими словами она перекрестила кукишем глаз парня. — Все, иди.
Провожать Ивана я не стала, ушла в дом. Хорошо, что сам не приехал. И все же почему-то было обидно. Я прогнала эти мысли. И без него проживу.
В следующие дни мне было не до Виктора и воспоминаний о нем.
Пришлось заново утыкать окна в девичьей. В людской они точно так же «обновились», как и во всем доме, а вот в девичьей, где их конопатила Дуня, так и остались рассохшимися. Похоже, «благословение» действовало, только если барыня сама руку приложит. Может, потому оно так редко проявляется: не каждая захочет грязной работой заниматься. Настенька-то уж точно ручки пачкать не собиралась.
Или мое личное участие требовалось только потому, что я просто толком не разобралась в этой магии, кто знает. Зато если уж благословение срабатывало — то действовало отменно. Как я ни старалась, не смогла найти ни на одной печи следы ремонта. Выглядели они так, словно их совсем недавно сложили и побелили. На тканевых обоях, которые я обмела щеткой от пыли, исчезли пузыри, а сама ткань налилась цветом, будто и не выгорала за годы с последнего ремонта. Полы, натертые мастикой, которую я опять сварила собственноручно, засветились свежим деревом и заблестели, будто лакированные. И даже разбитое окошко в один прекрасный момент снова оказалось застекленным. Правда, брезент, которым я его занавешивала, исчез вместе с досками. Видимо, даже в волшебном мире закон сохранения вещества, хоть и с поправкой на магию, действовал — из ничего ничего не появлялось. Я не жаловалась: чудо на то и чудо, что происходит на собственных условиях.
В саду дело шло медленней: с природой особо не поспоришь. Мы с Дуней обработали и побелили деревья, обрезали поломанные, засохшие и старые ветви смородины, проредив кусты, пролили их кипятком и обработали их, да пока на том и остановились.
Неожиданной заботой стали горшочки для рассады. В своем мире я о них никогда не беспокоилась. В детстве мы с мамой клеили их из старых газет, потом настала эпоха баночек из-под йогурта или сметаны и обрезанных пачек с соком. Здесь, разумеется, ни о чем подобном и не слышали. Да и с отдельными горшочками под каждый куст никто не возился: высевали рассаду в ящик или в теплицу, а потом разделяли выросшие кусты, неизбежно повреждая корни.
Я пустила на емкости под рассаду модные журналы. Даже если бы я и выезжала в свет, фасоны пятилетней давности вряд ли оставались актуальны до сих пор. Однако не такими толстыми они были, чтобы хватило на всю будущую рассаду. Переводить журналы по садоводству и домоводству я пожалела: вдруг да найдется там информация, как пользоваться магией. Пришлось оборвать бересту со всех заготовленных на дрова чурок, нарезать и склеить цилиндры. Дуня предложила наплести горшочки из соломы и показала, как это делать. Оказалось не сложнее вязания, но все равно медленно. Зарубать идею на корню я не стала, но и сажать всех домочадцев за плетение, заставив их бросить все дела, тоже не решилась. Так что мы возились с соломой в относительно свободное время, и я все больше склонялась к тому, чтобы расщепить несколько поленьев на лучину да проволокой скрутить что-то вроде объемной решетки, разделив ящики на ячейки. Вот выздоровеет Петр окончательно, он и займется.
Выздоравливал он куда быстрее, чем я ожидала, но если какая магия и была к этому причастна, все же заживить бесследно в один миг не могла. Как и положено, отмороженная кожа слезла, оставив кровоточащие от малейшего прикосновения язвы. Влажно-высыхающие повязки сменились мазевыми, раны заживали, однако пока заставлять Петра хоть что-то делать такими руками или ходить на таких ногах было нельзя. Я боялась, что, изнывая от скуки, он снова запьет, но он и не заикался. Попросил только разрешения вставать да бывать на кухне, «чтоб хоть с какой живой душой поговорить». Марья не возражала, время от времени просила его что-нибудь подать или поставить ухватом горшок в печь. Плечо ее уже не давало о себе знать, но я не спешила разрешать ей работать в полную силу — пусть восстановится как следует. Мы с Дуней молодые, здоровые, если что, и воду натаскаем, и тесто замесим.
Все же я строго-настрого запретила всем домочадцам упоминать при Петре спиртное и тем более предлагать — хоть «для сугреву», хоть по каким другим поводам. Не бывает бывших алкоголиков, бывают алкоголики «в завязке», и мне вовсе не хотелось провоцировать парня, который всерьез намеревался взяться за ум.
Чан, где выстаивалась брага из перемерзшей картошки, я поставила в одной из «господских» комнат, куда кучеру не было хода. Картофельный самогон на вкус — редкостная гадость, но я затеяла его не в кулинарных, а в технических целях. Мне по-прежнему нужен был хоть какой-то антисептик. Нужно было чем-то обработать ящики для рассады — бабушка моя мыла их горячей водой с содой, но и соды здесь, как выяснилось, не знали. То есть, возможно, и знали какие-то ученые мужи, но не провинциальные помещики. Нужно было готовить лекарственные настойки — да хоть той же сирени. Или, скажем, спиртовую вытяжку из хвои для профилактики парши и гнили, хотя хвою в теории можно и просто на воде настоять. Варенье, что было в погребе, переводить на самогон оказалось жалко: хоть оно и выглядело переваренным до невозможности, но вкуса не потеряло. Из части я поставила вино, которое тоже бродило сейчас в господских комнатах, подальше от носа Петра. Остальное отлично пошло в начинку для пирогов. Так что обнаружить за погребом два мешка промерзшей за зиму картошки — Марья только заохала, костеря на чем свет «помощничков» и собственный недогляд, — было очень кстати.
Я перебрала припасенные Настенькиной матерью семена — запасливая она была — и замочила часть, чтобы проверить всхожесть. Хоть они и хранились в погребе, все же не вечны.