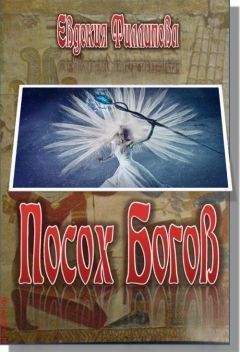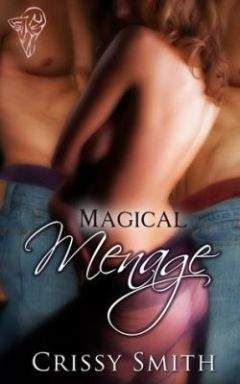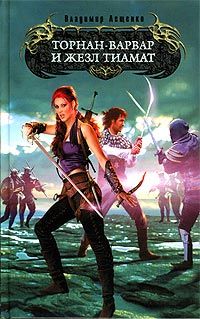И приехала туда раньше Зои.
Он был уже там.
Валентин сидел на крайней скамье, положив локти на выгнутую спинку, красивый и желанный как никогда. Рядом на сиденьи лежала ветка лилий. Тамара знала этот сорт. Это была розовая Сорбонна.
Он смотрел туда, откуда должна была появиться её соперница.
Она видела, как широко открыты его глаза, его прекрасные серые глаза, как губы готовы улыбнуться сразу, как только появится Зоя.
Неторопливо и осторожно, как хищник вокруг жертвы, Тамара обошла сквер и встала за деревьями позади Валентина. Затаив дыхание, она наблюдала, как ветерок ерошит его светлые волосы, как заботливо он поправляет цветы. Цветы для Зои.
Она уже ненавидела свою соперницу с такой силой, что, могла бы, кажется, испепелить её только взглядом, а потом развеять пепел над чёрной речной водой.
Вдруг наступила тишина. Налетел странный порыв ветра, внезапный и ледяной, отчего по телу пробежала мелкая противная дрожь. А потом в глазах потемнело. И словно треснула, расколовшись надвое, мёртвая тишина, в голове загудел огромный колокол. Вокруг коленей закручивался ледяной вихрь. Сладострастно лизнув её ноги, вихрь с шумом, подобным шелесту вороха иссохшихся листьев, рванулся вперёд, промчался по скверу туда, где сидел Валентин, и, дунув изо всей силы, смахнул цветы со скамейки на землю, в пыль.
Валентин сделал движение, чтобы их подхватить, но не успел.
Тамара стояла за деревяьми, с каким-то странным чувством облегчения наблюдая, как он поправляет сломанную веточку, стряхивает с лепестков крупинки песка.
Вдруг она остро почувствовала, что Валентин никогда не подарит ей цветов.
Обессилев, она присела на прямо бордюр тротуара и согнулась так, будто её ударили поддых, в солнечное сплетение. Дышать стало невозможно.
Плакать не хотелось, нет. Но и жить не хотелось.
В этот миг она увидела Зою.
Она шла через сквер навстречу Валентину, легко шагавшему к ней.
На Зоиной груди что-то ослепительно блеснуло прямо в глаза.
Тамара зажмурилась. «Какая боль…»
Но ненависть придала ей сил. Она медленно, словно ноги вязли в отчаянии, направилась прочь.
Над синей полоской дальнего леса, подчеркнувшей линию горизонта, в темно-голубом небе, висело красное вечернее солнце. Прохладный ветер гнал из-за реки сиреневые сумерки, пуская полосы ряби по поверхности воды. Низкие волны ежесекундно, словно захлёбываясь, нахлёстывали, слизивая плотный тёмно-жёлтый песок береговой полосы. Августовская вода жирно поблёскивала в сумерках.
Мы стояли на набережной, облокотившись на парапет, и смотрели вниз. Люди шли и шли мимо нас, а нам казалось, что вокруг никого нет.
Понемногу темнело. Над шершавой серой лентой асфальтовой дорожки догорали голубые звездочки цветков цикория. На пристани зажглись огни.
Стало холодно. Я зябко поёжилась.
— Замёрзла? Хочешь, пойдём к Павлу, в музей? Погреемся? Чаю попьём, — безукоризненной белозубой улыбкой улыбнулся Валентин.
Одними губами я ответила «да», и в каком-то внезапном порыве нахлынувшей тёплой волны благодарности за то, что он есть, прислонилась к нему плечом.
Он взял меня за руку. Его ладонь была тёплой.
Осязание из всех человеческих чувств самое контактное, его трудно обмануть. Это был тёплый живительный ток. Через сплетённые пальцы он передавал мне своё тепло, и, как мне казалось, свои мысли. И он думал о том же, о чём думала я. О том, что наши пути пересеклись каким-то таинственным образом. Были ли эти траектории заданы изначально, или мы блуждали как в потёмках, совершенно случайно оказавшись в одной точке пространства и времени. О том, чем же был тот странный «зов», заставивший меня приехать сюда, судьбой, как считала я, или блажью, по выражению моей мамы.
Я смотрела в его глаза цвета пасмурного северного неба, на пряди его льняных волос, высокий лоб и сводящую с ума складку губ, и готова была идти куда угодно, вот так, взявшись за руки, касаясь друг друга плечами, разговаривая о пустяках, просто, чтобы быть рядом.
Мы прошли через сквер, мимо автобусной остановки, бюста знаменитого авиаконструктора, спустились по булыжной мостовой вдоль книжного магазина, и потом заглянули в маленькую булочную.
Продавщица, наглая рыжая девица, прямо при мне строила Валентину глазки. Она говорила голосом с хрипотцой, эдакая Марлен.
— Это твоя знакомая? — тихонько спросила я его.
— Да так… — неопределённо ответил он, беря с прилавка пакет с пряниками.
«Какое это имеет значение», — подумала я, словно теперь мы оба начали жить другой, новой жизнью, оставив всё другое где-то в другом измерении.
Выйдя из булочной, мы свернули направо за угол, и оказались у подъезда краеведческого музея.
— Мы к Пал Сергеичу, — сказал Валентин охраннику, и тот торжественно кивнув, пропустил нас.
Просторный музейный зал напоминал галерею с рядами стеклянных витрин вдоль стен. У меня возникло какое-то щемящее тоскливое чувство при виде пустынных залов с бесконечными рядами жутковато отсвечивающих стёкол. Предметы старины, запрятанные в бесплодной изоляции, подчёркивали бренность пространства и времени. Всё уже было, было…
Валентин уверенно вёл меня по лабиринтам служебных коридоров. Направо, налево, вверх, вниз… Я всё равно не смогла бы запомнить этот путь, я была слишком сосредоточена на его руке, крепко державшей мои, ставшие уже горячими, пальцы.
За одной из нескольких совершенно одинаковых белых дверей, симметрично расположенных по обеим сторонам узкого коридора, оказалась маленькая комнатка с одним, но очень большим окном. Всё вокруг было завалено журналами и книгами, и, казалось, что нет ни пяди свободного пространства.
— Паша, мы к тебе, — сказал Валентин, отодвигая стопку журналов с края стола и пристраивая пакет с пряниками. — Ставь чайник.
Как хорошо я помню этот вечер. Тесная комнатка, горячий чай, пряный запах сигаретного дыма, смешивающийся с чайным ароматом, провинциальный городской пейзаж за окном…
Я была счастлива в тот вечер накануне своего восемнадцатого дня рождения, сидя рядом с Валентином, касаясь его плечом, грея руки о чашку.
Брошенный мною в чай кусочек сахара немедленно затонул, и вверх побежали пузырьки. Я отхлебнула глоток, и, смакуя его терпкий вкус, рассеянно блуждала в мыслях где-то между ароматным напитком и Валентином.
Дождь барабанил по крыше. Этот естественный акустический фон отчего-то придавал происходящему оттенок ирреальности.
Его глаза… казалось, можно полностью погрузиться в них, словно это был нескончаемый коридор, и там, в самом конце…