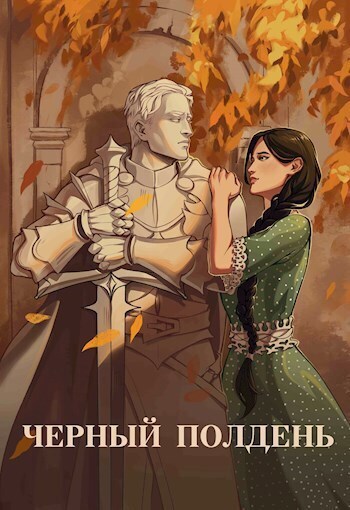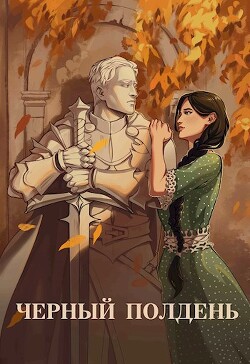лет прошло, столько воды утекло. Лес погустел и спрятал в себе руины, уже и морочки забыли о прошлом, а шрамы заросли живой травой. Только в годовщину в церкви сотнями горят свечи — ярче даже, чем в Долгую Ночь.
Мы и сами остались — следы старой трагедии, недосмытые пока временем. Лежачая тётка Сати, повторявшая имена перед портретом, заросший мхом мраморный рыцарь, забытая в ковыле лунная девочка.
А ещё крысиные деньги, за которые снова кто-то умирает.
И золотые знаки лунных жрецов, которые не желали, чтобы Усекновитель проснулся когда-нибудь снова, — даже если он делает что-то «правильное».
И молния, намертво отпечатавшаяся на сетчатке, выжженная в глазах калёным железом. Молния, которую я узнаю снова и снова, в видениях про мёртвую воду и горящий меч.
Там не хотят, чтобы люди знали, — говорил Царбик, и его все считали городским сумасшедшим, двинувшемся после смерти детей. — Крысиный Король зачерпнул в Бездне магию, продал свою суть болотным огням, и за ним пошла армия морочек и сама старуха-смерть. Радио тебе голову промыло, если веришь, что нет Крысиного Короля!
Меленея узнала тот дом, синий с рыбой и старым грушевым деревом, и тот почтовый ящик. Кто-то из Волчьей Службы спрятал в нём крысиные деньги, и их привезли странной двоедушнице, так похожей на лунную девочку и знакомой с её именами. Привезли в Огиц, где в каком-то склепе, в саркофаге из бронзы и золота, должен открыть глаза Усекновитель.
— Скажите… — я шумно сглотнула, и Става подняла на меня голову. Я не заметила, когда она надела тонкие химические перчатки, и когда подцепила монету пинцетом — тоже. — Эти деньги. Они проклятые?
Става усмехнулась криво и бросила:
— Ну, конечно же, нет.
Става разложила монеты на чистом листе бумаги, посветила на них сперва обычной лампой, а потом каким-то странным синим фонариком, чему-то фыркнула и велела коридорному позвать артефактора.
Его звали мастер Ламба, и он оказался очень сухим лысым мужчиной без бровей, смуглым и одетым в выпачканный маслом комбинезон. С собой у него были костяное пенсне с дополнительными линзами, защитный щиток, что-то вроде фиолетового увеличительного стекла, целая россыпь камней и крупная жестяная банка вроде тех, в которых хранят крупы. Ворон по зверю, повадки он имел какие-то журавлиные, при ходьбе высоко поднимал колени, а в кабинете первым делом погасил верхний свет и лампу, оставив только тот самый синий фонарик.
— Не шевелимся, — причмокнув, велел он Алике. — Рукой не дёргаем, ничего не напрягаем. Чуть-чуть пощиплет.
С этими словами он взял Алику за ладонь и запихнул её в банку.
Алика ойкнула. Мастер досчитал до пяти, вытащил руку и принялся разглядывать её через свои линзы и камни, что-то негромко бормоча себе под нос и чёркая в бумагах. Потом он проделал всё то же самое со второй рукой Алики, а затем взялся за меня.
В банке оказалось что-то вроде желе, холодное и довольно-таки противное. Мне оно напоминало содержимое саркофагов, и от этого лоб покрывался испариной.
— Прелюбопытнейший случай, — воодушевлённо объявил мастер, закончив свой странный осмотр. Весь он занял никак не меньше получаса, и всё это время Става лежала на столе, свесив голову вниз и мурлыча что-то себе под нос. — Необычайно интересный для всей артефакторной науки! Мы должны всесторонне…
— То есть ничего внятного ты сказать не можешь, умник?
Мастер поправил пенсне:
— Наука, юная леди, требует времени и упорства.
— Ясно, — поморщилась Става. — Пустая трата времени. Заберите эти свои финтифлюшки, и с болтливой девицы пусть возьмут подписку и отвезут её куда скажет. А ты…
Става глядела на меня в упор, не следя, как обиженный мастер собирает инструменты, а Алика лихорадочно придумывает что-нибудь, чем она может быть полезной.
— А ты, Олта Тардаш из Марпери, сейчас расскажешь мне абсолютно всё.
— Мне… нечего вам рассказывать, — сказала я, облизнув губы.
В кабинете мы были теперь одни, и Става даже милостиво предложила мне графин с водой и полотенце, чтобы я отмыла руки от артефакторного желе, пока пальцы не слиплись в ласты.
— Ну не стесняйся, — хмыкнула она. — Я вся внимание! Смотрю на тебя одну, такую гадину. Хочешь, буду раскачиваться, как под гипнозом?
Я вспыхнула. Сама Става пахла как-то странно: я всё принюхивалась и дёргала носом так и эдак, но не могла понять, что у неё за зверь. А она, конечно же, сразу узнала во мне змею и посчитала нормальным шутить про это невежливые шутки.
Времена Крысиного Короля давно позади. Гажий Угол называется Гажьим Углом просто по привычке, и живут там совсем не только гады. И сейчас нет ничего плохого в том, чтобы быть змеёй или лягушкой, ящерицей или рыбой; это звери ничуть не хуже прочих, и только дурачки верят в глупые россказни, будто всё, что шипят змеи — одна лишь ядовитая ложь.
— Эй, эй, — Става примирительно подняла руки, — я вообще прекрасно отношусь к змеям! Никаких предрассудков, и я совсем не думаю, что ты станешь мне врать! Ты же не станешь, правда? Ты же знаешь, что я не просто так спрашиваю?
У меня вспотели ладони. Про Волчью Службу болтали едва ли не больше, чем про змей.
— Н-нет. То есть… да? То есть… что вам рассказать?
— Вот про склепы, например. Что тебе понадобилось от дохлых колдунов?
— Я голос жреца, — послушно сказала я заученные наизусть слова. — По поручению лунного господина…
— Нет, давай без этой всей херни, это будешь впаривать кому-нибудь другому. Давай с начала начнём: где простушка со швейной фабрики вообще встретила лунного?
— Ну, лунные… они…
Става зря намекала на мою змеиную природу: врать я так и не научилась.
В Долгую Ночь мы ловим за хвост своего зверя — и свою судьбу; так мы обретаем новую жизнь, и смысл, и свою дорогу. Она известна теперь во всём многообразии своих поворотов, от Охоты и до самого неизбежного финала.
Дорога — это и есть ты. И зверь, которого ты ловишь — в каком-то смысле отражение того, что ты есть.
В книгах каждому зверю подбирали ключевые слова, и все они были по-своему хороши. Но змеиные, как-то уж так вышло, все были… с подтекстом. Про мою гадючку и вовсе говорят, что она глядит злобно, хотя змеиная морда не слишком богата на мимику, а узкие зрачки и нависающие надглазные щитки мне подарила природа.
Ещё говорят, будто гадюка безжалостна, не останавливается ни перед чем и идёт к цели, пока не добьётся своего. И что, по первой пугливая, вгрызается