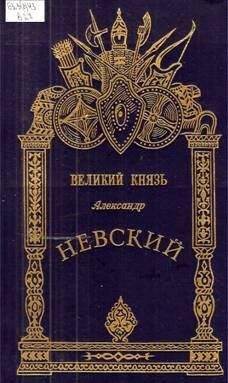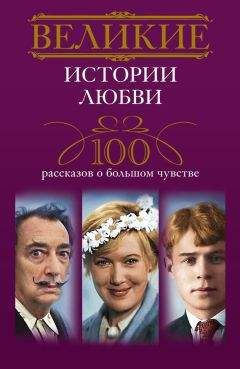валиться, точно скользкими те стали, как змеиная чешуя. Возьмется за чашки — расколет, кошку приласкать потянется — а та и прянет, шипя. Старуха-мать поколачивать стала, за неловкость да за бесстыдство ругая.
— Бедная девушка, — проговорила Гореслава, жалостливо заламывая брови. — За что же с ней так? Она ведь ничего не сделала…
— А вот так молва и люди с девицами обходятся, — горько хмыкнула Василиса. — Чуть оступись — и в штыки… А оступиться легко. Ты, Гореслава, холодная, сдержанная — тебе просто жить. А ежели кровь горячая? Голова дурная?.. Разок дашь себя поцеловать — а молва такое разнесет, что и подумать страшно. И выгонит мать из дома, и бывшие друзья-подруги не дадут приюта…
— Васенька?.. — тревожно заглянула в чужое лицо Гореслава. Сердце княгини схватило жалостью, взяла она в свои руки ладони Василисы, прижала их к своим щекам. — Никуда я тебя не прогоню, ты же мне… дороже, жизни до…
— Тише, княжна, — ласково да снисходительно остановила Гореславу слепая певица. Погладила чужие светлые волосы. — Не рано ли ты такие клятвы делаешь? Еще пожалеешь…
— Никто меня не разумел и разуметь не хотел, — шепнула, опуская глаза, Гореслава. — Я всем была чересчур сложна. Только ты все понимаешь, и я с тобой себя ребенком чувствую, которому все ясно и светло. Тебе довериться могу, с тобой…
— Ну, тише, милая, — очень ласково, но совершенно непреклонно повелела Василиса. И прижала палец к чужим нежным губам. Гореслава опустила глаза.
— Что дальше было с той девушкой? Ее, как тебя — выгнали?..
— Пока не выгнали, — покачала головой Василиса. — А только чурались ее все, и бледной тенью былой себя шаталась она по улицам деревеньки, не находя ни жалости, ни любви, ни прощения. И прощаться ей было, казалось, не с кем. И тоску, гложущую сердце, излить — некому. Крепче задумалась девушка о черном омуте и тяжелом камне, да так бы и уснула среди русалок, если бы не…
Ее звали Медунь. За волосы бурые в рыжину, за бронзовую кожу рабочих рук и текучесть движений — как металл расплавленный, была она гибка и переменчива. Жила она не в деревне, а где-то в лесу, с матерью, которую, как появилась Медунь, никто не видел. А мать звали Медуница. А мать ее — Медёвка. А уж ее мать — Медь…
По виду была Медунь ровесницей Перышки, да только в золотых глазах что-то древнее плескалось, мудрое. В конце того лета пришла она в деревню, лыком подпоясанная, с берестяной скрыней, полной земляники. И стала ее торговать. Ничего не сторговала, только угостила Перышку, а потом предложила той пойти к ней жить. Испугалась Перышко — дурная слава за Медунью ходила, скверная. Будто с колдовством мается. Нечисть у себя принимает. Ни дома, ни места не имеет.
А до конца лета еще седьмицы две оставалось, и совсем невмоготу стало жить в деревне. Подруги под ноги плевали, молодцы, приговаривая, что терять уже и нечего, под юбку лезли, а мать велела ночевать на сеновале за домом — избу не марать. Долго маялась, а все же согласилась. И пошла за Медунью в лес, по той самой тропинке, что к колодцу вела. Шла рука об руку с лесной девицей, и так ласково та с ней обращалась, так учтиво говорила, что заплакала по дороге Перышко — а ведь раньше с ней все так были.
У оврага, в который змеи ныряли, остановилась Медунь. Указала на темную воду да и сказала, что здесь и будет ее дом. Оторопела от страха Перышко, поняв, в какую ловушку ее заманили. Заплакала, пятясь от темной воды. Пожалела ее Медунь, поймала за руки и стала ласково говорить: дескать, не бойся, девица. Я тебя привела, только потому что думалось, будто уже готова ты идти. А Перышко вдруг утерла слезы, подняла глаза да и сказала:
— И вправду, чего же мне терять… Пойдем.
Взяла она Медунь за руку, и вдвоем они скрылись в омуте. Сомкнулись над ними кувшинки, заключила в себе черная вода. Долго ни вдохнуть, ни выдохнуть не могла Перышко, а потом открыла глаза — и увидела над собой высокий каменный потолок, где лазуритом и бирюзой был выложен небосвод, а молочным кварцем на нем — облака. И через каждые тридцать шагов — по медному солнышку, с огромным янтарем в середке. И ползут по гладкому полу змеи, а перед Медунью расползаются, пригибают плоские головы к земле, шипят сквозь зубы:
— Царица, царица, царица…
Посмотрела Перышко на Медунь, да вся и обомлела. Шла с ней рядом барыня в платье бронзового бархата, с золотой парчою, с серебряными цепями и россыпью изумрудов на поясе и колье. На челе — золотая корона, две змеи сплетаются и медное солнышко между пастями держат. А потом глянула Перышко в глаза недавней девице — те двумя овалами золотыми на бледном лице, с узкими зрачками. И чешуя на щеках, на руках загорелых проступает едва заметной рябью.
Ласковым голосом обратилась Медунь к Перышке, взяла ее за руки:
— Не бойся, девица, не за что тебя обижать — и потому обижать не буду. А только нельзя тебе наверх — увидела ты змеиную свадебку, а по обычаю, коли увидит девица, как змеи женятся, должно ей Царь-Змею невестою делаться.
— Невестой?.. — зажала губы Перышко бледной ладошкой, побледнела вся. — Царь-Змею?..
— Только триста лет назад извела я его, отца своего, — без трепета поведала Медунь. — Нет больше Царя-Змея, а обычай соблюдать надобно.
— Кому другому меня отдашь? — не чуя себя, спросила Перышко. — Змеиной невестой быть?..
— Никому не отдам, — ласково успокоила девушка Медунь. — А только и наверх отпустить не могу. Но ты побудь здесь, погляди — и не заметишь разницы с землею.
А только все равно закручинилась Перышко. Чахла она в подземном царстве. Не заменял ей мертвый блеск каменных сокровищ живого солнышка, лазурного небушка, зеленой травушки. На глазах таяла, в самом деле делаясь легкой, как птичий пух, и как он — белой-белой. И сон ее не морил, и голод не трогал. Погибала Перышка без солнца и тепла, без свежего воздуха, и с жалостью глядела на нее всевластная Медунь, не в силах никак помочь.
Тогда сама попросила ее Перышко, поднимая обведенный кругами взгляд:
— Царь-Змеица, всесильная и бесстрашная, исполни мою просьбу