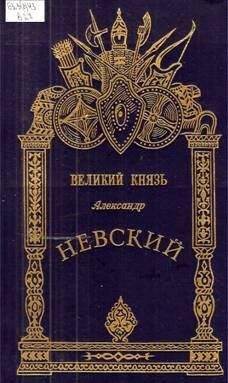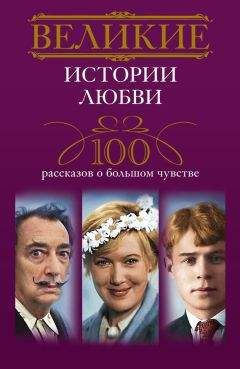— авось, хоть так кровь в жилах разогреется, хоть ненадолго вернется перед смертью жизнь в остывающее тело.
Испугалась таких речей Медунь, с тревогой кинулась к Перышке.
— Чего же ты хочешь, девица?..
Поднялись на Царь-Змеицу голубые глаза небесные, в ресницах золотых, изогнутых. И прошептала Перышко, щеками не вспыхивая — не было крови быстрой, крови жаркой, чтобы румянцем пылать:
— Уложи меня с собою на холодную кровать, да приласкай меня — чтобы потеплел от страсти скользкий шелк…
Изумилась просьбе Медунь, но кивнула в ответ. Потянулась руками к плечам Перышкиным, притянула девушку к себе и поцеловала в самую середку губ. А змеи в ту пору горячими были, как печи. Раскаленными. Медными, как солнышко, и все его тепло в себя впитывали. Это-то тепло и вдохнула Медунь в губы Перышки, и разожглась кровь в жилах девушки, и залил пунцовый румянец бархатные щеки. Все свое тепло Медунь отдавала Перышке, чтобы та жила, и змеи свои тепло ей отдавали — и посерела их чешуя, стали они гадюками и ужами, поблекла некогда медная раскраска.
— А что дальше с Перышком? — подняла глаза Гореслава. Она держала руки Василисы, прижимала их к своим щекам и заворожено слушала рассказ.
— Видела она солнышко, и небушко видела, и травку зеленую мяла, — напевно сказала слепая. А затем лукаво обернула незрячее лицо к самой Гореславе и прошептала, так что дыхание ее согрело Горелсавины нежные губы. — А видели их не раз вдоль той тропинки. Голые спины в зеленой траве, мешанину золотых и медных прядей. Белые руки, скрещенные со смуглыми руками Медуни, да алые губы, вжатые одни в другие. Дрожащие ресницы над рдеющими щеками и крепкие бедра, распахнутые колени. Со змеиной страстью сплетались они в клубок, и непонятно было, где одно тело переходит в другое, где медь сменяется молоком…
Не сразу прянула Гореслава, а все же не поддалась желанию. Не поцеловала чужих губ, только запылала с досады, что Василиса сама ее не поцеловала. Слепая певица усмехнулась ласково и проницательно, погладила Гореславину руку.
— Потерпи, маленькая… Сама ты должна прийти, что нужно тебе, как Перышко решила. А может, поймешь, что не хочешь, и тогда будешь рада, что не допустила ошибки. А торопиться с этим не надо, всегда успеется.
— Я точно знаю, чего хочу, — круто потупившись, прошептала Гореслава. — Только осмелиться не могу. Василиса?
— Что, радость моя? — ласково и беспечально спросила женщина. Гореслава, снова воровато оглядевшись, прижалась к чужой груди, зажмурилась в майской пьяной нежности. — До чего же ты мягкая, Гореслава, до чего ты еще ребенок…
— Отчего Медунь стала выпускать Перышко? — не поднимая головы от чужой груди, не мешая рукам, снимающим повойник с ее головы, спросила Гореслава. Распущенные пряди до самой земли рассыпались плечам, и мягко стали перебирать их гибкие пальцы Василисы. От тихой ласки сон крался под веки. А может, смаривали жара и одуряющий запах цветов. — Ведь даже когда та умирала, Царь-Змеица ее не выпустила.
— Так ведь закон — девица должна стать невестой. Она и стала, и тогда предложила Медунь отпустить ее. Только Перышко сама отказалась. Попросила иногда бывать наверху, ловить глазами облака, пускать меж пальцами травинки и греться под солнышком, как ты сейчас, Гореслава.
Василиса ласково потрепала русые волосы, коснулась губами бледного виска княгини.
— А остальное время она была с Медунь, ибо ничто не связывает сердца теснее, чем доброта. Не цепями, но доброй волей она привязывает людей друг к другу, не горечью остается под языком, а тихой пряностью. Потому и дороже такая любовь, и длится она веками. Может, и по сей день Медунь и Перышко вдвоем сидят в подземной зале на каменных тронах, а на языческие праздники поднимаются наверх и нежатся в травах, угадывая в перистых облаках невиданных зверей и птиц.
Василиса провела ладонью по чужой спине, по рассыпанным на ней прядям. Прислушалась к чужому ровному дыханию.
— Неужто спишь, ребенок? Ну спи, спи, маленькая… Я посторожу.
========== 4. Огонь ==========
— Вася? Не уходи, пожалуйста. — Гореслава лежала на широком супружеском ложе, укрытая по самый подбородок медвежьей шкурой, и светлые волосы рассыпались вкруг девичьего нежного лица, еще совсем детского. Светлые глаза жалобно посверкивала отраженным пламенем, а лежащие на одеяле пальцы крепко впивались в медвежью шерсть. — Тяжело на сердце. Побудь со мной…
— Как же я уйду от тебя, княжна? — зажигая свечи, удивительно ловко отыскивая их в темноте, ответила певица. Уселась на край кровати и взяла в свою ладонь Гореславину руку. — Милая, нежная девица… Что на сердце твое легло непомерным грузом? Отчего глаза твои мокрые, точат водицу солону, точно криницы?
— Николай Святославович весточку отправил, — пусто проговорила княгиня, свободной рукой перебирая пряди шерсти, закусывая губу, отводя взгляд. — А я будто и забыла, что есть такой человек на свете, и вдруг — напомнил. Говорит, что далеко простерлись на юг наши земли, пора и с северо-запада Русь беречь. В Речь Посполитую он поехал, сдерживать недругов. И сказал, что к весне воротится…
— До весны еще осень, и зима, и лето наше с тобой целиком не минуло, — ласково шепнула Василиса, наклоняясь к княгине и целуя ее в лоб. Не отрывая губ от нежной кожи, поцеловала еще щеку, подбородок, у самых губ. Гореслава вздрогнула, но не отвела чужой ласки. — А там, может, и решится…
— Ничего не решится!.. — с горечью воскликнула Гореслава. — Не люблю я его, никто он мне! Сказал отец — выходи замуж, я и вышла. Говорила маменька, что стерпится, слюбится, что сердце девичье — что воск, ан-нет, никто мне, кроме тебя, не нужен. И если бы я хоть тебя не видела, а теперь и под руку с ним пройтись тошно, и для государевых людей напоказ целоваться сил не хватит — оттолкну, заплачу…
— Тиш-ше, девица, — еще ласковее зашептала Василиса. — Смотрю я на тебя, и не верю, что принуждали тебя к чему-то. Не верю, что не можешь ты мужу нет сказать.
— Могу, — прошептала Гореслава. — Мы… как с церкви воротились, вошли в покои. Он разделся, ждет чего-то, а я только сарафан верхний сняла. Стыдно же пред мужчиной в одной сорочке. Он…
— Гореслава, — коротко шепнула Василиса, села подле, оттирая с уголка чужих глаз соленую влагу. — Не надо, ежели тяжело говорить.