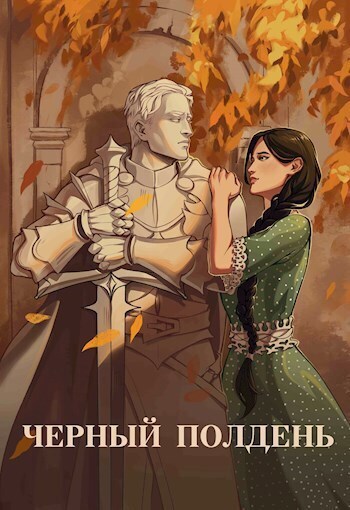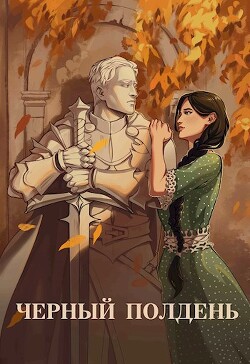вместе с тем вставало на свои места.
А на мне платье из синего ситца, летящее, пышное, как для журнала придуманное. Я в нём лёгкая-лёгкая, какая-то хрупкая, неуловимо лунная. Наверное, такой видела меня Лира в своём предсказании.
Я стояла у окна, вцепившись в подоконник и отчаянно не желая верить. И в волосах у меня — голубые цветы.
Лунный дворец высился над самой рекой.
Я слышала, что когда-то в Огице была другая друза, где-то на сопках — башня как башня, ничего особенного; и что при университете стояла стеклянная пирамида с верхним балконом, на котором часто можно было увидеть крылатых. Теперь же обычные лунные селились, где придётся, а чуть в отдалении стоял дворец. Хрустальный дворец старших лунных.
На него хорошо было смотреть с видовой площадки, или с красного моста, или с цветастых лестниц, — издалека он был похож на фантазийный флакон для божественного аромата, случайное создание света, хаотичное и прекрасное в своей непостижимости. Дворец висел над рекой, как ледяной клин, замерший в воздухе за секунду до падения. И свет играл в стеклянных гранях, многократно отражаясь, и расцвечивал воду ослепительными бликами.
Здесь, в северном пригороде, почти не строились двоедушники: слишком крутые, неудобные холмы, река сильно сужалась, а ледоходом уже снесло однажды мост. Дворец висел, гигантский и поразительный, на сотне прозрачных нитей-канатов — как муха, застрявшая в едва видимой паутине.
— Как это сделано? — спросила я, не чувствуя, по правде, особого интереса.
— У Дарёма есть хме, — с готовностью отозвался Дезире. — Инженер. Наверное, они посчитали как-то, чтобы эта штуковина не падала. Здорово получилось!
Я пожала плечами, а потом кивнула. Мир всё ещё был для меня пустым — и болезненно бессмысленным.
Как она могла? — спрашивала я, как будто на этих словах в горле заело пластинку, и она скрипела одно и то же, одно и то же, с каждым разом всё неразборчивее. — Как она могла?
На самом деле, здесь не было никакой загадки.
Она могла просто потому, что для неё здесь не было ничего сложного. Она была лунная; порождение чистого света; сознание, овеществлённое по случайному капризу самой Луны. Она зажигала огонь в ладони безо всяких слов, могла одной рукой вырвать бревно из ледяной корки, не нуждалась ни в пище, ни в тепле и была, в конце концов, крылата. Её крылья сделаны из ветра и света, а два глаза разных цветов умели глядеть в разные места.
Что ей стоит убить прикованную к постели женщину? Может быть, она и вовсе заглянула в портрет, сказала «бу» и наблюдала, как уходит жизнь из бледного лица. А, может быть, она могла протянуть сотканные из света руки в чужую грудь и сжать ледяными пальцами живое сердце.
Словом, она могла. И всё, что должно было бы остановить её, было слишком уж… человеческим.
«Если её не будет, сумма счастья…» — заговорил Дезире как-то, когда-то очень давно. Тогда я пришла в ужас, но какой-то слабый, недоумённый, — может быть, потому, что я не понимала ещё эти слова настоящими.
И эти все, в хрустальном дворце — они были такие же. Они сидели там, среди прекрасных видов и струящегося света, важные, поразительные. Они помогали чернокнижникам или по крайней мере не мешали, — хотя те убивали людей во имя своих странных целей, хотя из-за них разливалась Бездна, а молнии Усекновителя разбили Марпери.
— Я и не человек, — усмехнулся Дезире как-то.
А вчера ночью, перебирая мои волосы и касаясь сияющим туманом лунных украшений, пробормотал:
— Может быть, я хотел бы быть человеком.
Тогда я только прижалась к нему крепче и долго, с усилием смотрела вверх, чтобы слёзы не выкатились из глаз.
Мы были — пыль на дороге больших процессов. Мелочи, не имеющие веса. Кому есть дело до людей, чьи жизни уничтожила та катастрофа, если Бездна — всё-таки не открылась, а преступник — заплатил за всё? Кому есть дело до зверушки, посмевшей связаться с лунным?
Я могла бы уехать сейчас. Я могла бы уехать куда-нибудь к морю, жить там свою маленькую жизнь и листать газеты, вчитываясь между строк: что за трагедия случилась в Огице, и что за статую поставили в городском саду.
Но это значило бы, что всё было — зря. Что ничего не изменится, как не меняется ничего и никогда. И что Полуночь была права, когда назначила мне тихо гнить на самой окраине Кланов.
А я могла бы… может быть, я могла бы изменить что-то. Или хотя бы досмотреть до конца.
— Возьми вот булавочку, — ласково сказала Става и, перегнувшись через переднее сидение, сама приколола её к воротнику платья. — Там в ушке опал, щёлкнешь иглой — у меня тут всё заверещит.
Она важно похлопала по сумке: под вязаной оболочкой с ярко-оранжевыми аляповатыми цветами угадывался короб алтарного комплекса. Я нащупала булавку в воротнике и кивнула.
Става снова была добродушна и излучала оптимизм. Она сидела рядом с водителем, в ней ничего не напоминало о недавней вспышке, и улыбка у неё было всё такая же — придурковатая.
Когда мы спустились, я не стала трясти её: а ты уверена; а что, если; а, может быть; а точно ли; но как же… это было пустое. Во мне всё закончилось, будто с дрожью выплеснулись наружу все силы, и остались только упрямство и странная, глупая надежда.
— Это не пригодится, — тускло возразил Дезире. — Мы уйдём до последней песни.
— Конечно, конечно. Олта… ты вот ещё одну возьми, — Става неожиданно засуетилась и сунула вторую булавку в кошель у меня на поясе. — Пусть лучше две, да ведь? Если одну ткнёшь, я решу, что у тебя проблемы. А если две — что большие проблемы. Договорились?
— И что ты тогда сделаешь? — безразлично спросила я.
— Не знаю, — серьёзно сказала Става. — Но так же всё равно лучше?
Я кивнула и отвернулась к окну.
Дезире сидел рядом со мной, на заднем сидении, собраный и безразличный. Вереница цветастых городских домов прервалась, нырнули в стороны линии проводов, поредели фонари. Вдоль пустынной дороги потянулись заборы, сперва важные кованые, а затем — попроще, деревянные, с облупившейся краской.
Бурлила зелень, пахло тепличным духом, перегноем и влажностью, из огородов здесь и там торчали задницы увлечённых дачников. На одной из веранд дремал, опустив рогатую голову, лось; похоже, здесь двоедушникам уже позволялось оборачиваться.
— Стало громче, — спокойно сказал Дезире, когда нитка заборов оборвалась тоже. За деревьями, обступившими извилистую дорогу, тут и там