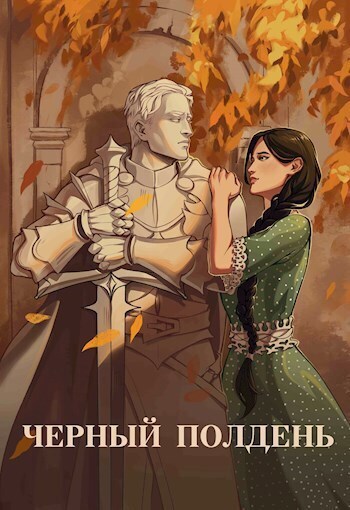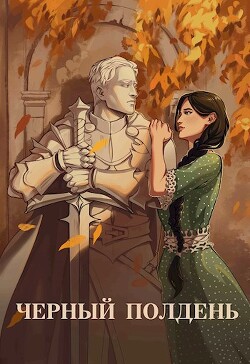улыбка, нарисованная один раз и навсегда, а внутри — мусор. Пустота.
Я всё-таки не потеряла сознания, только осела на стул, как будто ноги подкосились. И вцепилась пальцами в столешницу, до боли, до синеющих ногтей.
— Это правда? — мой голос срывался.
Дезире смотрел на меня чуть сбоку, мягко и ласково.
— Я не знаю.
— Скажи мне!
— Я не знаю, Олта.
Он покачал головой, а мне захотелось закрыть глаза и перестать быть.
Она была… волшебная.
Волшебная, как прекрасная героиня страшной сказки — до того, как чудесное приветливое лицо сползёт с неё и обнажит череп с пустыми глазницами и серые наточенные зубы.
Девчонка и девчонка, даром что лунная. Мелкая, вся угловатая и дёрганая, странно одетая, очень наглая — и очень потерянная. Она могла склонить голову, глядеть сквозь тебя, как надмирное существо, и говорить о свете, ковыле или посмертии; она могла встряхнуть косичками, подпрыгнуть и заверещать: вот ты где!
Мне было жаль её — брошенного ребёнка, который пятнадцать лет ждал в одиночестве оставленного всеми перевала загадочную «её». Я болтала с ней о ерунде, а она достала откуда-то тридцать восьмой роман про Меленею, — а ведь он всё ещё не добрался даже до библиотеки Огица, я спрашивала.
— А вот и я! — говорила она, заглядывая в конфетный фантик на моём столе.
И тянула жалобно:
— Ты приходи…
И я ведь знала. Я знала с первого момента, что волшебство это — бумажная маска; и что там, под ним, живёт чудовище. Что ей — как всем лунным — безразличны люди, и что им ничего не надо и ничего не дорого, кроме своих странных вещей.
Испугавшись крысиных денег, я сказала ей: нет. Нет, я не хочу всего этого больше, мне не нужно это, нет. И дома я метнулась к столу, где были разложены под стеклом фотографии, и застелила их тканью; сняла с дверцы шкафа рисунки, сунула их в ящик лицами вниз; развернула к стене пачку овсянки, на которой была нарисована улыбчивая дородная девушка с милыми ямочками на щеках…
— Олта отвезёт тебя в друзы! — решила она потом.
— Нет, — снова сказала я, и это «нет» резало язык и рвало душу. — Тётка Сати!.. Я не могу от неё уехать. Я не могу. Нет.
И тётка Сати умерла. Я вошла в дом, о чём-то болтая, а она лежала в своём углу на высоко поднятых подушках; не человек больше — предмет. Запрокинутая голова, приоткрытый рот, поплывшие черты лица, глубокие синеватые тени на бледной коже… и обронённый портрет храмовницы Ки на полу.
— У неё был мотив, — сказала я хрипло, вспомнив почему-то, как рассуждала книжная Меленея. — У неё была возможность. И она… неужели она…
— Я не знаю, — в третий раз повторил Дезире.
Мир вокруг меня кружился, пронзительно-ненастоящий, будто нарисованный карандашом. В этом мире всё ещё была я, добродушная дурочка, которая так хотела видеть во всех людей, а во всех людях — хорошее. А тётки Сати в этом мире больше не было.
Тётка Сати. Она была рядом всю мою жизнь: она лишь изредка ездила на танцы в Старый Биц, скорее повеселиться, чем на что-то надеясь, и посвятила жизнь той семье, которая у неё была. Она знала всех наших предков по именам; она помнила ещё прадедушку, которому посчастливилось поймать хищника, и прабабку, от которой нам достались вышитые подушки. Она рассказывала мне все те сказки, которые я знаю, и научила видеть в рождённой моей мамой сморщенной картошке маленького человека. Она склеила из обувных коробок кукольный дом и «учила меня играть»; в чём была учёба — уже и не вспомнить, зато я помню, как мы делали для этого домика маленькие часы, и лампы в бисерных абажурах, и даже крошечные кукольные зубные щётки.
Нет, конечно, родители тоже были где-то там, рядом, простые рабочие люди, живущие простую жизнь. А тётка служила в волшебном мире телефонной станции, придумывала вещам смешные названия и любила читать то же, что и я.
Она была светом, она была домом. Она выписалась из больницы, как только начала вставать, — чтобы мы с Гаем не жили лишнего при соседях. Она знала, о чём я плачу, она…
И чем отплатила ей я?
Это я во всём виновата, я. Я спуталась с лунным, пошла на этот проклятый перевал, и там — эта девочка. Я замахнулась на то, что мне не предназначалось, забылась, ослепла. И из-за меня она…
У неё была дурная жизнь. С такой много раз подумаешь: лучше ли она небытия. Всего и радостей, что старенькое радио да книги.
Но она не заслужила этого. Никто этого не заслужил! И Меленея не могла, не могла, не должна была, не имела никакого права…
И ради чего!.. Ради того, чтобы я довезла до Огица голову. Нельзя было разве отправить её бандеролью?
— Олтушка…
Я неловко подёрнула плечами и отвернулась.
Из-за него всё началось. Если бы не он, я бы никогда не уехала из Марпери.
Никогда.
Мир раскачивался и дрожал, составленный из крошечных ненастоящих деталек. Ты думаешь, будто сама решила, — но лишь потому, что не видишь истинных причин; ты думаешь, будто на что-то влияешь, — а потом обходишь пятьдесят склепов для того, чтобы ничего не найти; ты думаешь, будто надеешься и любишь, — пока не узнаёшь, что он совсем скоро уснёт, а ты останешься; ты думаешь, что ищешь добра, а теперь выясняется, что причиной смерти родного человека — ты.
Ты сама — шарнирный болванчик без воли и без души. Всё вокруг — кукольный домик, собранный из обувной коробки. Ты заперта в нём навечно, в плену картонных стен, на которых нарисованы обои, в гулкой пустоте, в темноте, духоте и запахе нафталина.
И ты задыхаешься, задыхаешься, задыхаешься.
— Олтушка…
Я остановила его ладонью. С трудом поднялась из-за стола — потолок навалился на плечи, словно корни похоронного дерева. Меня врезало в подоконник, как корабль разбивает о берег в шторм; я рванула щеколды, дёрнула ручки и свесилась в окно, отчаянно пытаясь глотнуть хоть немного воздуха.
Залитый солнцем город пах недавним дождём. Целый город мокрых оранжевых крыш, спускающихся по склону до самой серебряной змеи-реки. Блестящие окна, в которые стучалась ветвями юная зелень, шумела дорога, и июнь звенел надрывно, будто плача и о чём-то мечтая.
Небо чистое, и нет ни дымки, ни влажной тени у реки. Оттого видно, как ползёт по железнодорожному мосту поезд. Он уходил куда-то вдаль, туда, где лучше и краше, пока для меня всё рушилось и