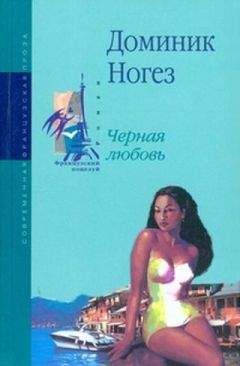Она ответила:
— Скоро двадцать исполнится.
— Когда?
— Двенадцатого июля.
Я чертову уйму денег просадил на этот юбилей, меньше чем через месяц. Праздновать двадцатилетие любимой женщины! На самом деле она убавила себе годик. А тогда — я не успел еще раздеться, а она уже, улыбаясь, протянула мне презерватив.
И из-за всех этих воспоминаний мне захотелось починить старый видеомагнитофон, чтобы еще раз посмотреть кассету «Синей лошади», которая до сих пор у меня. Люблю подолгу сражаться с аппаратами, которые никому не удается заставить работать. Через некоторое время я забываю обо всем, кроме винтов, проводов, считывающей головки, приводных резинок. Благодетельный демон ручного труда принес мне много счастья и даже несколько удач. Увы, сегодня у меня ничего не получается.
Да и к чему это? Я знаю запись наизусть. Я мог бы описать каждый кадр: пустая сцена, вся в драпировках и пальмах, которую продолжает сеть, натянутая над публикой; прибытие двух путешественников, измотанных и изголодавшихся за недели странствий в саванне; крупный план движущихся листьев. Один из путешественников, белый, устремляется в заросли. Схвачена юная туземка (Летиция в леопардовой шкуре, босая, с красными цветами в волосах). Мольбы о пощаде остаются втуне. Европеец с силой встряхивает пленницу и бросает ее в угол. Та, на мгновение оставшись без присмотра, хватает нож и бросается на него. Он ее обезоруживает. В борьбе цветы падают, показывается грудь. Прекрасная строптивица связана. Свет тускнеет — наступила ночь. Один путешественник отдыхает, другой стоит на страже с ружьем в руке. Она не спит, стонет, плачет. «Лунный луч» выгодно подчеркивает ее формы. Европеец подходит. Она смотрит на него так, что он не может противиться искушению; он пытается ее поцеловать; она делает вид, что сопротивляется, потом уступает. Они целуются. Крупный план. Он развязывает ее. У костра (освещенные сзади красные бумажки) она в благодарность начинает сладострастный танец, а точнее стриптиз. Показывается другая грудь, набедренная повязка держится на честном слове. В тот самый момент, когда повязка падает, дикарка устремляется к сетке, преследуемая партнером с голым торсом. Здесь изображение расплывается: камера с трудом поспевает за двумя телами, пытаясь поймать их крупным планом. Когда оно снова становится ясным и четким, время романтических объятий прошло. Л. на четвереньках над лицом мужчины, который лижет ее, а она, в свою очередь, помогая себе рукой, сосет его член, который сразу же твердеет. Камера движется не меньше действующих лиц. Скрипят кресла зрителей; почти слышно, как они сглатывают слюнки.
Затем актеры покидают сетку — которая уже оставила некрасивые следы на коже белого человека, — и у самой рампы начинается эта сцена втроем, которую я никогда не выносил. Не из-за позы, совершенно банальной — Летиция сидит на одном из лежащих актеров, который ее трахает; другой актер стоит перед ней с расставленными ногами, и она у него сосет — даже не из-за того, что все это настолько механически (как это выразить? это больше чем холодность: лежащий актер то растягивается на полу, то приподнимает торс, опираясь на локти, со скучающим, в лучшем случае невыразительным видом; другой повесил голову, его глаза не видны, он, возможно, смотрит за кулисы или в пустоту, его руки свешиваются вдоль бедер). Нет, невыносим был именно их отсутствующий вид, при том, что покрасневшие члены, нелепые на фоне экзотического пейзажа, как пирожные эклеры, вздымаются, и на экране видна только их — именно их — блестящая жизнь! Именно эта двойная игра, разыгрываемая перед нами, ритмичная, отвратительно монотонная (иногда раздается музыка, грязная дряблая музычка, но еще хуже, когда она умолкает, и слышится только хлюпанье влажных, ударяющихся друг о друга тел), и выводила меня из себя. Эта ложь тела, в которой фрагмент уже не повинуется целому, в которой целое напрасно пытается заглушить фрагмент. Это спокойное тело, казалось бы, отдыхающее, рассеянное, отвлеченное, казалось бы, немое, которое на самом деле кричит об одном, только об одном: я трахаю Летицию! Я ее ебу! Я ее фарширую! Я ее набиваю! Я в ней роюсь! Я ее насаживаю! Я в ней! Я вошел в нее! И кошмар пленки, говорящей: можете смотреть меня убыстренно, от конца к началу, от начала к концу, делать стоп-кадр, стереть меня, но вы не сможете отменить то, что случилось навсегда — этот половой акт. Но я еще ничего не сказал, я оставил в тени центральную деталь этой омерзительной инсталляции плоти: Летиция между ними, взятая сверху и снизу, она-то делает это не механически, у нее не такой вид, как будто в нее проникли без ее ведома твари, подобные монстрам из фильмов ужасов, которые пробираются в тела и внезапно с силой сотрясают их изнутри и против воли, она-то не притворяется, она и горяча и холодна, и безразлична и возбуждена одновременно; она не фрагмент целого, она не разделена, совершенно цельная, храбрая, энергичная, наслаждающаяся всем своим существом, губы приподняты над плотно сжатыми зубами, широко открытые глаза, жемчужины пота на висках, вся ушла в свое дело, вся отдалась, вся пропала для меня.
И все же настал день, когда эта мерзкая кассета, которую я чуть было не отдал ей с отвращением и о которой она так и не узнала моего мнения (вначале я боялся обидеть ее или быть смешным, позднее, когда я мог бы поговорить с ней об этом спокойнее, она меня покинула), — стала мне драгоценнее иконы. Первоначальное отвращение, объясняющееся ревностью, конечно же — самой ужасной из всех видов ревности, ревностью физической, — и страхом перед сексуальностью других, который всегда мешал мне быть последовательным вуайеристом, уступила место чувству более эстетическому, то есть усмиренному — ностальгии и даже отчаянию. Мне казалось, что никогда больше я не увижу ее теперь, избавившись от грубостей, от терновых шипов непристойного сладострастия. Иногда, в те редкие периоды, когда я немного отходил от Л. и хранил какое-то время целомудрие, мне даже удавалось занять по отношению к этим неловко снятым кадрам и навязчивым крупным планам чисто утилитарную позицию, свойственную всякому при просмотре порнографических фильмов. Летиция была всего лишь прекрасным телом — увы! всего лишь призраком прекрасного тела! — одним из многих. Тогда, полностью меняя направление, этот жар, эта редкая чувственность, которые глубоко шокировали меня, когда были обращены к ее партнерам, возбуждали меня больше чем что-либо, потому что казалось теперь, что они обращены только ко мне.
Но чаще всего — так же, как несколько десятков уже уничтоженных фотографий, и еще сильнее, чем они, — эти движущиеся эфемерные кадры имели то величайшее преимущество, что возвращали мне ее такой, какой я знал ее в первое время нашей любви (если предположить, что, вынося решительное суждение о взаимности, я могу сказать «нашей любви»). Они, во всяком случае, являются единственным напоминанием — из вторых рук или скорее из вторых глаз, — которое у меня осталось о «Синей лошади». Что касается первых глаз — я зашел туда однажды вечером, несмотря на ее решительный запрет. Я ничего не мог с собой поделать. Я собирался остаться в глубине зала, чтобы она меня не видела, и скромно уйти или, кто знает, зайти к ней в уборную поздороваться (штучка вполне в стиле «Голубого ангела» или «Марокко»!). Возможно, когда первое раздражение пройдет, она почувствует, какую честь я оказываю ей, придя за ней в то место, которое мне претило посещать не столько из-за спектакля, сколько из-за публики; она увидит мой влюбленный и умоляющий вид, она будет обезоружена, она улыбнется своей улыбкой, открывающей очаровательный промежуток между зубами, и мы вернемся к ней вместе.