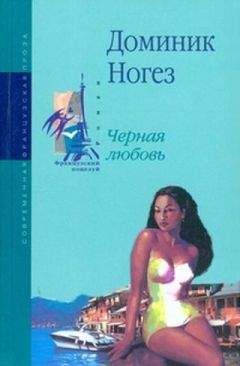Назавтра, или скорее через несколько часов (я приколол на дверь записку с просьбой не будить меня), наконец встав, чтобы выйти к обеду, я был слишком занят тем, что скрывал под шейным платком под предлогом простуды синие отметины, оставленные моей прекрасной вампиршей.
Сначала мы часто прогуливались. Иногда поздно вечером, после занятий любовью в квартирке Жерома, мы возвращались на аллею Гранд-пляж, ту, где я заметил ее в первый раз. Было ли дело в месте, или в мягком воздухе, или в том, что она еще старалась казаться милой, но ее голова лежала у меня на плече, а моя рука, окружив ее талию, покоилась на любимой мною впадинке, и мы шли молча, как вульгарные влюбленные, которым больше нечего сказать друг другу а потом вдруг она начинала долгий рассказ о каком-нибудь случае из своего детства. В один из этих вечеров она до слез рассмешила меня историей о своих дядьях: у нее их была целая куча, один — настоящая тряпка, его бросила жена, другой — тщеславный выскочка и трепач, а потом она посерьезнела, рассказывая о своем отце, богемном музыканте с Монмартра, которого почти не знала.
Или мы пускались в путешествие на весь день, уходя далеко за город. Именно так, вскоре после нашего знакомства бродя в местности Камбо-ле-Бен, мы, сами не зная того, проникли в имение Эдмона Ростана. Летиция должна была вернуться в Париж, а я на следующей неделе собирался к ней присоединиться мысленно. Она уже была далеко, держалась рассеянно или скорее безразлично, а лучше даже сказать — замкнуто. По совершенной случайности мы добрели до границы этого имения и поднялись по дороге между самшитами и магнолиями, потом прошли через небольшую рощицу красивых дубов с узловатыми стволами и оказались перед самым что ни на есть неожиданным зрелищем, которое можно было найти на этой баскской окраине: огромный сад во французском стиле с подстриженными кустарниками и фонтанами, достойными виллы Эсте, и, для начала, между двумя ротондами, соединенными узкой перголой, каскадом спускающейся вниз, к воде. А прямо перед нами был большой дом, блистающий под синим небом, — дом в баскско-лабуренском стиле, похожий на многие другие, с зеленым фахверком на белом фоне, но увеличенный в десять-двадцать раз! Кукольный дом размером с замок!
Я уже хотел предложить Л. подойти к нему и рассмотреть поближе, но она, стряхнув с талии мою руку, проскользнула между колонн перголы и, не боясь упасть, побежала к фонтану. Когда я попытался нагнать ее, она сбросила легкое платье и прыгнула в воду. Сначала она подставила лицо, закрытые глаза и жадный рот под мощный каскад струй, потом стала барахтаться в воде, как юркий коричневый зверек. Казалось, она не обращает внимания ни на меня, ни на гуляющих вокруг туристов. Наконец она вскочила и крикнула мне «Сюда!» так повелительно, что мне ничего не осталось, как повиноваться. Я снял рубашку и штаны, на мне оставались плавки. Но когда я приблизился к ней, она сорвала их с меня с громким хохотом, и чем больше я протестовал, пытаясь натянуть их, показывая ей на группки посетителей в аллеях, тем громче она смеялась и наконец с силой, удивившей меня, дернула ткань плавок, так что разорвала их. Потом, столкнув меня в воду, она накинулась на меня с любострастным голодом, которому я не мог противиться. На левой ротонде какое-то семейство застыло в недоумении, пока мать, особенно шокированная, не потянула назад мужа и деток, чтобы им не видно было наших любовных игр. Никогда Летиция не выказывала такой страсти и эротической изобретательности, как в тот день. И никогда еще мне не было так неловко заниматься любовью. Похоже, эксгибиционизм — не моя сильная сторона. Чем ближе был так громко возвещаемый миг ее — а все же и моего — высшего наслаждения, тем глубже становилось мое уныние. Мы достаточно много брызгались и шумели, чтобы никто не остался не оповещенным об этом, но я слишком хорошо чувствовал вес устремленных на нас взглядов. Но будем справедливы: пришел момент, когда наслаждение стало достаточно сильным, достаточно дурманящим, чтобы отмести все прочее — смущение, взгляды и даже жесткость цементного дна бассейна, даже острые камни, вонзавшиеся в мое тело. Дошло до того, что, когда мы кончили, именно я дольше и ленивее одевался: когда рубеж перейден, границ больше нет. Но я бы кривил душой, если бы утверждал, что мы помедлили, прежде чем вернуться в машину и удрать. Я даже не успел рассмотреть на изгороди фамилию владельца.
Возвращение было мрачным, насколько я помню. Во всяком случае, очень молчаливым. Молчали и я, и она. Меня заставляло молчать не водное приключение и не упущенная из-за него возможность осмотреть удивительный дом. Это было предчувствие. Два дня назад, когда она звонила при мне кому-то, чей голос и, следовательно, пол, я не мог различить (она в совершенстве умела прижимать трубку к уху чтобы никто не мог ничего расслышать), заканчивая разговор, она сказала: «В шестнадцать десять. Нет. На платформе или в вагоне-ресторане. Да. Я тоже, крепко-крепко». И это достаточно ясно говорило о том, что она вернется в Париж не одна и что человек, который должен ее сопровождать, весьма с ней близок. Разговор этот стал для меня пыткой — я более четверти часа ломал себе голову, поступиться ли вежливостью ради собственного спокойствия (ведь в принципе подслушивать неучтиво), а потом, когда весьма неловко — и тем более неловко, что я попытался взять небрежный тон, — я наконец выдавил из себя вопрос, задав его таким глухим голосом, что ей пришлось попросить меня повторить (что она сделала весьма сухо), — так вот, когда я спросил ее, поедет ли она с этим человеком, она бросила на меня ледяной взгляд и ничего не ответила. Я был слишком влюблен, чтобы настаивать, я провел те немногие дни, которые оставались до ее отъезда, пытаясь загладить свою нескромность с успехом весьма относительным и даже, надо признаться, близким к нулю.
Попытаюсь все же получше описать ее вид в тот день: это безразличие и презрение; она притворялась отсутствующей или скорее делала вид, будто другой (то есть я) уже много веков как не существует; ее негативное излучение, холод, убивающий всякую связь, даже тоненькую, как паутинка, даже порядка простой вежливости или некой «жалости», которую испытывают друг к другу, если верить Жан-Жаку Руссо, все живые существа, даже занимающие разные ступени на лестнице эволюции, и которая заставляет, например, лошадь ржать и подниматься на дыбы, как только она почует труп. Ее вид — я продолжаю — был за пределами обиды, за пределами досады, что не означает, что обида преодолена; напротив, она здесь, она огромна, все организуется, все вращается вокруг нее; я бы сказал, она испускает смертельное излучение. Глаза Петиции были устремлены на меня, широко открытые, жестокие, блестящие, невидящие; она смотрела сквозь меня и явно видела будущее, в котором меня не было. Часто такой вид имеют любовники накануне разрыва. Но мы друг друга знали совсем немного, и так недавно! Возможно ли это — что у нее так мало терпения или любопытства? И правда, неделю спустя этот случай был забыт. Но тревога всколыхнула меня глубоко. Почему бы мне тогда не понять, что с ней, такой прекрасной и желанной, неуверенность будет постоянной и более ужасной, чем с любой другой женщиной? — ведь я не смогу даже предаваться угрюмым радостям ревности. У меня будут все причины ревновать без разрешения на это. Я всегда вынужден буду считаться с той ужасающей жестокостью, которая делала ее недоступной для меня — целые дни и даже, увы, недели! — даже не хохочущей (ведь хохот все же означает какой-то отрицательный интерес), но немой, ледяной, арктической, недоступно удаленной, в полной независимости, которая представляет собой и абсолютный запрет на любовь. Короче, уже тогда, тем днем в Камбо, я получил доказательство, что по ее милости мне предстоит много страдать.