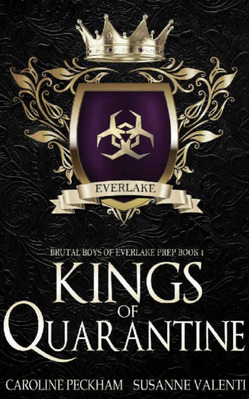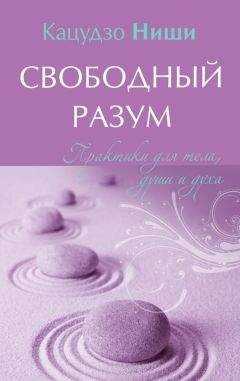Я могу насмехаться над ним, пока убиваю.
Но я не делаю этого. Какой в этом смысл? Через мгновение он исчезнет навсегда. Это для меня, не для него.
Его борьба становится все слабее, всплески усилий - все дальше, как у плывущей, умирающей рыбы.
Я давлю на его горло так же неумолимо, как и раньше.
Я не чувствую сочувствия. Ни вины. Этих эмоций я никогда не испытывал.
С академической точки зрения мне известен весь спектр человеческих эмоций. Я тщательно изучал их, чтобы имитировать их влияние. Но они не имеют надо мной власти.
То, что я чувствую, я чувствую очень сильно: ярость, отвращение и удовольствие.
Это элементарные силы внутри меня, как ветер, океан и расплавленный камень.
Я должен жестко контролировать их, иначе стану не лучше Шоу, рабом своих импульсов.
Я убиваю Дэнверса не потому, что хочу.
Я убиваю его, потому что должен.
Он был раздражителем, неудобством. Ничтожное, сопливое, завистливое пятно дерьма. Он не заслуживает ничего большего, чем это. На самом деле, он должен быть в почете, потому что я сделаю из него больше, чем он когда-либо мог сделать сам. Я увековечу его, чтобы его искра горела ярче хотя бы на мгновение.
Я слышу треск ломающейся подъязычной кости.
Его тело замирает. Через три минуты я освобождаю его.
Затем начинается разделка.
Во время работы я чувствую себя целеустремленным. Я стимулирован, заинтересован, горю от удовлетворения.
Такое чувство я всегда испытываю, когда создаю искусство.
Эта скульптура просто восхитительна. Это моя лучшая работа.
Я показываю ее в "Oasis", где, как я знаю, Шоу тоже выставит свою последнюю работу.
Ни одна из костей не является узнаваемой: ни ребро, ни нижняя челюсть, ни бедренная кость. Я обработал их напильником, обмакнул в золото и установил в совершенно новом порядке. Тем не менее, их линейная, органическая форма сохранилась. Скульптура живет, так, как никогда бы не жила, если бы была сделана из позолоченного металла или камня.
Реакция мгновенная и восторженная.
— Боже мой, Коул, ты превзошел самого себя, — вздыхает Бетси, глядя на скульптуру как на идола. — Как ты ее назвал?
— Хрупкое эго, — отвечаю я.
Бетси смеется.
— Как нехарактерно самоуничижительно, — говорит она.
Я ничего не говорю в ответ, потому что, как обычно, Бетси совершенно не понимает, о чем идет речь.
Я не ссылаюсь на собственное эго, которое несокрушимо.
Не успеет закончиться вечер, как моя скульптура будет продана за 750 000 долларов какому-нибудь новоиспеченному технологическому миллиардеру.
— Они планируют переплавить ее на золото? — кисло говорит Аластор.
Он никогда не продавал скульптуру и за половину этой суммы.
— Не думаю, что кто-то покупал мои работы только для того, чтобы уничтожить их, — говорю я, напоминая Шоу, что одна фундаменталистская церковь купила одну из его картин только для того, чтобы поджечь ее. Это было в его ранние годы, когда он был провокатором, а не продавцом.
Сегодня он не в настроении насмехаться. Его лицо выглядит одутловатым из-за слишком тесного воротника рубашки, широкая грудь вздымается и опускается слишком быстро.
Он смотрит на скульптуру с нескрываемой завистью.
У Шоу есть талант, это я могу признать.
Но у меня его больше.
Затем, в самый разгар раздражения и недовольства, выражение его лица меняется. Наступает понимание.
— Нет..., — мягко говорит он. — Ты не...
Мне не нужно подтверждать это и не нужно отрицать. Истина очевидна для всех, у кого есть глаза, чтобы видеть.
Аластор испускает чувственный вздох.
— Твои действия... . — говорит он. — Выставить их на всеобщее обозрение...
На короткое время он отбросил свою ревность. Я отбрасываю свою ненависть.
Мы смотрим на скульптуру, разделяя момент глубокого удовлетворения.
Затем его импульсы берут верх, и он не может удержаться от насмешки: — Чтобы побудить тебя к созданию великого искусства, потребовались незначительные слова маленького человека.
Гнев бурлит во мне, густой и горячий.
В отличие от Шоу, я не позволяю своим эмоциям определять мои слова. Я тщательно продумываю, что его больше всего разгневает.
Глядя Аластору прямо в глаза, я говорю,— Никто и никогда не будет говорить о твоей работе так, как говорят о моей. Должно быть, это съедает тебя изнутри каждый день, когда ты просыпаешься с осознанием собственной посредственности. Ты никогда не станешь великим. Хочешь знать, почему?
Он застыл на месте, усмешка застыла на его губах.
— Это потому, что тебе не хватает дисциплины, — говорю я ему.
Теперь его захлестывает ярость, кулаки сжимаются и дрожат по бокам, толстые плечи трясутся.
— Ты ничем не отличаешься от меня, — шипит он. — Ты не лучше.
— Я лучше, — говорю я. — Потому что, что бы я ни делал, я всегда контролирую ситуацию.
Я ухожу от него, чтобы эти слова эхом отдавались в пустоте его головы.
Мара Элдрич
Я встаю в неблагоприятный час, чтобы успеть принять душ до того, как закончится горячая вода.
Я живу в одном доме викторианской эпохи с восемью другими художниками. Дом был разломан на квартиры кем-то, кто не соблюдал строительные нормы и не понимал основ геометрии. Тонкие фанерные стены делят комнаты на треугольники и трапеции без учета того, как должна вписываться в пространство прямоугольная кровать. Наклонные, прогнившие полы и провисшие потолки усиливают эффект сумасшедшего дома.
Я занимаю крошечное чердачное помещение на самом верху дома - летом там жарко, а зимой холодно. Тем не менее, это желанный уголок, потому что с него можно выйти на небольшой балкон. Прохладными ночами я люблю вытаскивать свой матрас, чтобы спать под звездами. Это самое близкое к кемпингу место в моей жизни.
Вся моя жизнь прошла в этом городе, часто в домах еще хуже, чем этот.
Я никогда не знала ничего, кроме тумана и океанского бриза, а также улиц, которые катятся вверх и вниз по головокружительным холмам, от которых горят икры, а тело наклоняется, как дерево под ветром.
Трубы вздрагивают, когда я включаю душ, втиснутая в пространство размером с телефонную будку. Вода, которая выплескивается наружу, сначала серая, потом относительно прозрачная. Тепловатая, но это лучше, чем ледяная.
Я быстро принимаю душ, потому что уже слышу, как скрипят и хлопают двери, когда несколько других соседей по комнате встают с постели. На кухне внизу горит завтрак Фрэнка. Похоже, его тосты тоже.
Художники не любят рано вставать, но никто из нас не добивается успеха настолько, чтобы не иметь подработки. У меня их три.
Сегодня утром я работаю на позднем завтраке, а позже выведу четырех неуправляемых клыков на пробежку в парк.
Я бьюсь бедром о дверь ванной, чтобы заставить ее снова открыться, и набухшая паром древесина застревает в раме. Я чуть не сталкиваюсь с Джоанной, которая спускается по лестнице в безразмерной футболке, под которой ничего нет.
— Мара, — говорит она, ее лицо уже искажается в извинениях. — Я больше не могу сдавать тебе свою студию – моё пребывание в La Maison закончилась.
— С какого момента? — спрашиваю я, паника кипит в моих внутренностях.
— Со следующей недели.
— Хорошо, — говорю я. — Спасибо, что сообщила мне.
Не все в порядке. Даже чертовски близко не в порядке.
Сейчас невозможно снять помещение для студии. Студия за студией закрываются, поскольку арендная плата в Сан-Франциско стремительно растет.
Когда я росла, это был город художников. Аллея Кларион, школа Мишн и дикое, хаотичное андеграундное искусство росли повсюду, куда ни глянь.
Моя мать не была художником как таковым, но ей нравилось трахаться со многими из них. Мы спали на диванах и в маленьких квартирках над ресторанами в Чайнатауне. Каждый день я видела, как на улицах рисуют грандиозные фрески, устраивают инсталляции и перформансы.