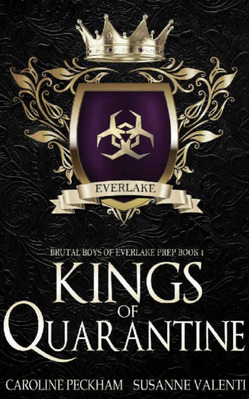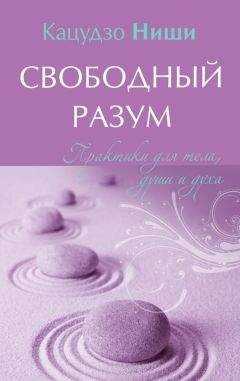Моя жизнь с матерью была хаотичной и несчастной, но я видела, как вокруг меня создаются прекрасные вещи. Это давало мне надежду на то, что из уродства и скудости может расцвести прекрасное.
Теперь же кажется, что в доме выдернули пробку. Все художники утекают, бегут в Окленд, Портленд или даже Лос-Анджелес, где они хотя бы могут найти коммерческую работу.
Арендованные ими помещения расхватывают технологические компании и софтверные миллионеры, которые потрошат исторические здания, заполняя их деревянные рамы сверкающим стеклом и сталью.
Логически я понимаю, что не имею права ничего из этого удерживать - мне самой ничего не принадлежит. На моем банковском счету едва ли наберется восемьдесят долларов.
Но мне так горько видеть, как все это исчезает именно тогда, когда я наконец-то достаточно взрослая, чтобы принять в этом участие.
Я одеваюсь в свою рабочую одежду - обрезанные джинсовые шорты, спортивные носки и кеды Converse. До сих пор я успешно избегала любой работы с дресс-кодом.
Я сажусь за наш шаткий стол для завтрака и спрашиваю Фрэнка, Генриха и Эрин, не знает ли кто-нибудь доступного помещения для студии.
—Только не я, — хмуро говорит Генрих. — Я сам ищу.
Генриху всегда трудно найти помещение для студии, потому что его работа основана на электрическом освещении. Ему требуются резаки и паяльное оборудование, и как минимум одно помещение он уже поджигал.
— Ты можешь попробовать подать заявку в Minnesota Street Project, — говорит Эрин.
— Удачи, — насмехается Генрих. — У них на каждое помещение сотня претендентов.
Все это не улучшает моего настроения. Я заглатываю немного ужасного кофе Фрэнка, отказываясь от тоста. У нас на работе есть свежие круассаны. Мой босс Артур никогда не возражает, если я украду парочку.
— Мара, — говорит Эрин. — Ты должна мне двадцать восемь долларов за коммунальные услуги.
Внутренне застонав, я роюсь в кармане и достаю двадцатидолларовую купюру, которую надеялась использовать для покупки продуктов.
— Остальные восемь долларов я принесу тебе после работы, — обещаю я.
Я никогда не знала, каково это - провести по карте, не задумываясь, сойдет ли баланс. Я нахожусь в каком-то хомячьем колесе, где чем быстрее я пытаюсь заработать деньги, тем быстрее земля уходит у меня из-под ног.
С другой стороны, я еще ни разу не голодала.
Я бегу в «Sweet Maple» и появляюсь потная и запыхавшаяся, последствия душа уже сошли на нет. Артур пихает в меня фартуком и говорит: — Шевели задницей, я только что усадил три столика на тротуаре.
Приверженность жителей Сан-Франциско к еде на открытом воздухе даже в самую плохую погоду никогда не перестанет меня удивлять. У нас есть лампы и зонтики для самых прохладных дней, но я не думаю, что что-то, кроме прямого удара молнии, может удержать наших посетителей.
К тому же у нас самый лучший бранч в городе. Я разношу тарелки с омлетами со спаржей, крабовыми бенедиктами и нашим знаменитым беконом до тех пор, пока у меня не затрясутся руки.
Всякий раз, когда я вижу кого-нибудь из своих знакомых, я угощаю их бесплатными мимозами. Артур тоже не возражает - он может быть грубым и властным, но в глубине души он милый человек, и это его способ поддержать общество.
Когда Артур наконец отпускает меня, а в кармане лежат столь необходимые семьдесят два доллара чаевых, я мчусь, чтобы вовремя забрать собак.
Я взяла с собой коньки в рюкзаке. Я веду собак по всему парку «Golden Gate», позволяя им тянуть меня за собой, работая только на подъемах.
Бруно, как обычно, ведет себя как говнюк, пытаясь запутать поводки. Я провожу костяшками пальцев по его толстому черепу, чтобы напомнить ему, что мы друзья. Это огромный мастиф, слишком большой для маленькой квартирки, в которой он живет. Думаю, его хозяин никогда не выводит его за пределы наших экскурсий.
Собаки делают меня счастливой, потому что они счастливы. Высунув языки, они вдыхают запах перечного эвкалипта. Я тоже вдыхаю его, закрыв глаза, чтобы почувствовать его вкус в легких.
Я думаю о работе, над которой я тружусь в студии Джоанны, и размышляю, успею ли я закончить ее до того, как меня вышвырнут из ее помещения. Она слишком большая, чтобы ее можно было легко перевезти. Если бы я смогла отправить ее на выставку «Новые голоса», это было бы что-то...
Что-то чертовски маловероятное.
Боже, как бы я хотела продать что-нибудь.
В прошлом месяце Эрин продала картину за восемьсот долларов. Это покрыло почти всю ее арендную плату. Вот это была бы мечта.
Я думаю о выставке, которая прошла несколько недель назад. Аластор Шоу выиграл приз в десять тысяч долларов. Вот это гребаная мечта. Я практически могла бы жить на эти деньги целый год.
Меня не было там, когда объявляли победителя, - мне пришлось уйти пораньше, чтобы успеть на свою третью работу, бармена в «Zam Zam».
Я видела Шоу, стоящего у своей работы - техноцветной картины, от которой практически разбегались глаза. Эрин шепнула мне, что собирается пойти поговорить с ним.
— Он такой чертовски горячий, — пробормотала она. — Посмотри на это тело...
Я подумала, что он выглядит так, как будто должен быть гребцом в команде Йельского университета в 1952 году. У него была квадратная челюсть, загорелый, чрезмерно здоровый вид, с легким налетом женоненавистничества. Красавчик, конечно, но не мой тип.
Хотя мне нравилась его работа, я считала, что победить должен был Коул Блэквелл. Его скульптура имела бледный, призрачный вид, который пленил меня, паря в пространстве, как фантик.
Все знают о соперничестве Блэквелла и Шоу. Художественные журналы обожают писать о каждой их мелкой ссоре. Оба молоды, полны сил, трахают все, что движется, и при этом пытаются превзойти друг друга все более возмутительными работами - это просто мечта обозревателя.
На самом деле я никогда не видела Блэквелла. Эрин говорит, что он угрюмый и замкнутый. Иногда он пропускает свои собственные шоу.
Возможно, мы пересечемся сегодня вечером - предположительно, он выступает в «Oasis». Эрин тащит меня с собой, потому что она действительно поболтала с Шоу на последнем мероприятии, и надеется, что сегодня все обернется чем-то гораздо более парным.
Ей придется встать в очередь. Насколько я могу судить, прокатиться на Аласторе Шоу - это такой же «эксклюзив», как и его бесконечные тиражи «лимитированных» принтов.
После того как я развожу собак по домам, я спешу в студию Джоанны в Эврика-Вэлли. Там я провожу следующие шесть часов, глубоко погрузившись в свой коллаж.
Я еще не решила, в какой технике буду работать постоянно. Иногда я рисую, а иногда делаю предметы, требующие огромной концентрации и безумного количества часов. Это совсем не выгодный способ создания искусства - вы не можете потратить двести часов на крошечную, расшитую бисером чайную чашку, которую никто не захочет купить. Но я пристрастилась к ощущению минутной, повторяющейся и даже мучительной работы.
Время от времени я фотографирую на древний Pentacon. Я бы не назвала это своей лучшей работой. Я использую камеру только тогда, когда хочу запечатлеть момент времени, то, что произошло на самом деле.
Не зная, какой художницей я стану, я чувствую себя несформировавшейся и дилетантской. Как будто я ребенок, играющий в переодевание, мой забрызганный краской комбинезон становится косплеем.
Иногда я думаю о том, что я потратила все свободные деньги на сырье, что почти все свободные часы моей жизни были потрачены на искусство, и тогда я думаю, что если это не делает меня художницей, то ничто не делает.
В такие моменты я испытываю жгучую праведность, которая заставляет меня ненавидеть таких людей, как Коул Блэквелл, несмотря на то, что я никогда не встречала его, потому что он всегда был богат и, вероятно, ни дня в своей жизни не жертвовал.