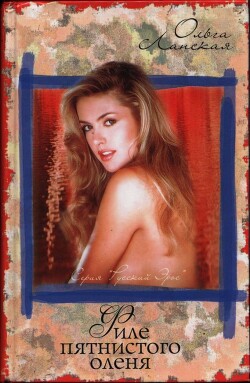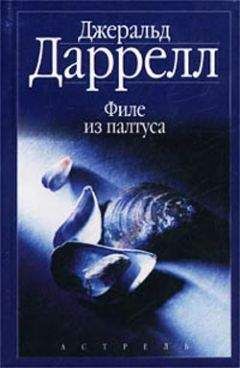— Марина, — я напустила в глаза восхищения, — ты просто потрясающая, Марина… Ты такая красивая сейчас, такая соблазнительная… У тебя такая грудь, милая…
Она улыбнулась кривовато, а в глазах стояло вино — темное, красное, теплое… В них и вправду приятно было смотреть — если не видеть всего остального. Дрожащих рук, бледных, напудренных слишком, щек, морщину пугливую на лбу.
— Ты такая молодец, такая сексуальная… Ты правильно решила, абсолютно верно. Разве можно такой женщине, как ты, скучать? Тебе надо предаваться удовольствиям, развлекаться, получать наслаждение от секса — тогда ты долго-долго будешь такой же молодой, свежей… И тело будет таким же — я ведь не сомневаюсь, что у тебя фантастическое тело… Признайся, я угадала?
Она покачала головой, стыдливо заливаясь краской.
— Ой, ну ты прям, Ань… Вы же обещали не торопить.
— А я и не тороплю. — Я погладила ее ногу. — Хочешь еще вина? Просто мне приятно смотреть на тебя и говорить то, о чем я думаю. Я ведь так ждала этого момента, надежду потеряла…
— Неужели? — Она словно не верила в то, что я говорю. Она и не могла поверить — она боялась, что теперь мне и ему это уже не нужно, — так же, как боялась в прошлый раз, что мы этого очень хотим.
— Если бы я могла сказать, как…
Время тянулось слишком медленно — для меня. И слишком быстро для нее. Она опять курила, отгрызла ноготь, дрогнув, пролила на брюки вино — думаю, не случайно. Потом замывала пятно, потом вновь курила. За окном слышался редкий уже шум ночных машин, и проститутки уже толпились у бутика напротив нашего дома, и грызли семечки, и хохотали. И взрезал иногда черное небо обращенный к ним свист нечастых клиентов.
Там были жизнь, и свежий воздух, и слабый, но все же — запах порока. А здесь жизнь остановилась, и нечем уже было дышать от дыма, и давно ушедшее желание напоминало о себе только торчащим из-за книг на полке кончиком старой ее фотографии. Более привлекательной для меня когда-то, чем живое воплощение, сидящее рядом теперь.
— Ты и вправду чудо, Марина… Ты так меня возбуждаешь. — Я взяла ее руку и положила себе между ног, и она задергалась в конвульсиях, задрожала, как попавшая в мышеловку мышь. — Мне так приятно с тобой, милая… А хочешь, посмотрим какую-нибудь эротику, чтобы ты могла настроиться? Я уже так возбуждена, но понимаю, что для тебя это непросто. — Я ласково говорила, тихо-тихо, почти в самое ухо ей, чувствуя кожей, как оно пылает.
Вадим укоризненно посмотрел на меня. Он напротив сидел, на пуфе, а мы на диване с ней рядом, и сейчас сделал страшные глаза, показывая, чтобы я не продолжала. И я вспомнила, как он мне рассказывал, что раздобыл в наши асексуальные времена кассету с «Калигулой». Тогда еще видео толком ни у кого не было, а уж откровенных, пусть и не порнографических, картин никто не видел, а видел бы — никому не рассказал. И он нашел фильм и принес его домой, надеясь с помощью восхитительно отснятых кадров разбудить тягу к близости у своей холодной супруги.
А она лежала и грызла яблоко, и головой качала, и морщилась, а потом настойчиво попросила выключить. И непонятно было, что вызвало у нее такой гнев — то ли слишком красивые тела героев, с которыми она себя сравнивала мысленно и которым, по своему же мнению, проигрывала. То ли чрезмерные оргии и совокупления. А скорее всего та страсть и вкус, с которыми предаются наслаждениям все и везде, разрушительная, поглощающая, неутолимая похоть и желание. Которое ослабило, а потом погубило великую империю — таким сильным было. И которого нисколько не возникло у нее, презрительной чопорной зрительницы.
— Хотя зачем нам какие-то искусственные возбудители, верно, милая? Лучше я буду гладить тебя, а ты думай о чем-нибудь, что тебе приятно. Ты так мне нравишься, Марина…
Ее глаза блуждали, изучая ногти — сегодня ненакрашенные, детские. А рука подрагивала, и пепел сигаретный сыпался на стол, как ее перегоревшая решимость.
Самое главное, что я совершенно не знала, как теперь поступить. Я не могла ей сказать, что я ее отпускаю, пусть не пугается, — она бы обиделась, она ведь приняла решение. И хватать и гладить мне ее тоже надоело — она стоически сносила все это, но так вздыхала, когда я отстранялась, словно чудом осталась в живых. И сказать ей, чтобы она раздевалась и шла в душ, я тоже ей не могла — она бы точно решила, что ее используют, и разрыдалась бы, чего доброго, или повесилась бы тихо, привязав к трубе отопления пояс от моего халата. И написав на белой двери, что она уходит, потому что не смогла переступить через свои убеждения.
Я не знала, как мне быть. И показывала Вадиму какие-то вопросительные знаки, а он только плечами пожимал и прикуривал очередную сигарку.
— Марина… О, как мне приятно… Ты такая упругая, такая горячая… Я так хочу тебя, милая. Ты ведь тоже хочешь, правда? Не скрывай, хочешь, развратница. — Я шутливо погрозила ей пальцем и длинно провела языком по шее, задев ангорское плечо, оставившее у меня на языке волоски из ее водолазки. — Как ты хороша…
— Анна, оставь Марину. Некрасиво приставать. — Его голос был деланно строгим. — Может, Марина передумала уже и ей неудобно нам сказать. А ты…
— Нет! — Она вскрикнула так, словно готова была схватиться за эту спасительную ниточку. Словно просила не сбивать ее с принятого решения, потому что больше уже она никогда не сможет его принять. — Нет! Я готова!
— Ну… — Я теребила ее тонкие волосы и смотрела — с полуулыбкой томной и загадочной, помутневшими лживо глазами. — Может, тогда пойдем в спальню? Без всякой эротики и порно, сейчас же — я схожу с ума… Да и зачем смотреть на карамельки на картинке, если перед тобой лежит швейцарский шоколад. Верно, милая?..
* * *
Ключ позвякивал в замке очень громко, и я опасалась, что разбужу его. Потому что уверена была, что он уже заснул от усталости, — что было бы неудивительно. И вздрогнула от неожиданности, услышав не сонный совсем голос из спальни:
— Надеюсь, расставание было не очень болезненным?
Я усмехнулась только, головой покачав. Подумав, что он имеет право на такую вот злую иронию.
— Я постаралась удержаться от слез. Хотя, признаюсь, далось это непросто…
За окном было восьмичасовое утро — не совсем подходящее время для того, чтобы ложиться спать. По потолку ползали солнечные тени, пробивающиеся коварно сквозь плотные серые шторы, и дворник скрежетал уже метлой, и плакали дети, не желающие отправляться в сад. И кто-то упорный трещал забастовавшим аккумулятором.
Сон не шел почему-то. Хотя вполне мог наброситься на измученное и изможденное слишком долгой ночью тело. А вот не шел. Зато кто-то зловредный подсовывал мне все время мелкие детали, препятствующие спасительному погружению в забытье, — запах чужих духов, пропитавший всю постель, недопитый бокал на тумбочке со следами не моей помады, забытая заколка, упавшая на пол.
— Теперь ты довольна?
Ему тоже не спалось. Мы лежали рядом, делая вид, что отключились, но каждый знал, что это не так. Он встал и принес нам сигареты, и дым, поднимающийся к непривычно светлому потолку, вернул меня на несколько часов назад. Его тоже было много тогда, этого дыма, и он также висел над головами — только потолок был серым, ночным. И слабые тени на нем двигались медленно, сплетаясь, скручиваясь, разделяясь и опять сливаясь друг с другом.
Она лежала передо мной, вымытая моими руками, пахнущая мылом и чистотой. И закрывала одной ладонью себя внизу, и прикрывала локтями грудь — хотя я только что все это гладила, терла губкой, ласкала. Она прикрыла глаза, и я видела ее лицо совсем близко — глубокая морщина на лбу, белые замерзшие губы. Жертва, вознесенная на алтарь собственной свободы. Силящаяся что-то доказать себе и не могущая.
— Милая, ты такая красивая… Ты даже не представляешь себе, насколько ты красива…
— А он где?
— Он придет позже. Он не хочет нас смущать. Сначала мы должны как следует насладиться друг другом, а потом, если ты захочешь, позовем его… Ну расслабься же. Смотри, какое у тебя тело. Как оно, наверное, нравится мужчинам. Как оно нравится мне…