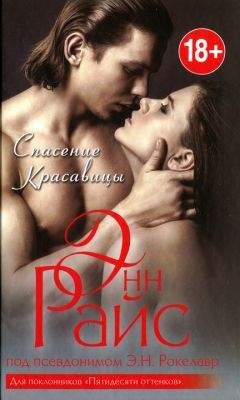Даже в случае с Тристаном: возникало ощущение, что любовь его господина чересчур скоропалительна, слишком откровенна. И достоин ли сам королевский летописец Николас таких глубоких чувств? Высветил ли Тристан что-либо особенное, рассказывая об этом человеке? Все, что можно было разобрать сквозь горестные стенания принца, так это то, что господин перемежал их плотскую любовь моментами интимных откровений.
Интересно, а Красавица купилась бы на подобное завлекание?
Впрочем, в городке, распяленный на позорном кресте, ерзая под регулярно исполнявшим свою работу ремнем, я испытывал особую, смешанную с горечью, радость вспоминать леди Эльверу. Но с не меньшим, острым удовольствием я возвращался мыслями и к Красавице, к дерзкой маленькой принцессе, увиденной мною в лагере, когда она с нескрываемым изумлением не сводила с меня глаз. Известна ли ей моя тайна? Знает ли она, что я желал всего этого? И отважилась бы сама она на такое? В замке поговаривали, что она самовольно обрекла себя на наказание в городке. Да, мне уже тогда она невероятно понравилась, эта храбрая и нежная, прелестная малышка.
Однако мое существование понесшим кару беглецом закончилось, едва успев начаться. Я так и не попал на помост аукциона.
Как раз в пору моей последней, полуночной, порки случился набег на городок. Грозные всадники султана прогремели по узким булыжным улочкам. Мне перерезали кожаные путы, сорвали со рта перевязь, перекинули ноющее от боли тело через круп уже разгоняющегося коня — все это произошло так быстро, что я даже мельком не увидел лица своего пленителя.
Затем было долгое заточение на корабле, в этой утлой каюте с медными светильниками, задрапированной тканями со сверкающими самоцветами. И золотистое масло, что щедро втерли в мою исполосованную кожу, и напитанный благовониями гребень, которым старательно прочесали мне волосы, и, наконец, держащаяся на цепочках, плотная золотистая сетка, накинутая поверх моих интимных органов, чтобы я не мог касаться их руками. И теснота моей клетки, и связанные с этим ограничения и неудобства. И робкие, полные уважения вопросы других плененных рабов: зачем, мол, я сбежал из замка и как сумел перенести наказание на позорном кресте?
И звучавший в ушах отзвук последних слов посланника королевы Элеоноры, предупредившего, прежде чем мы покинули ее владения: «…К вам более не будут относиться как к существам с высшим разумом. Напротив, вас станут дрессировать, как редких и ценных зверушек, и боже упаси вас что-нибудь говорить или выказывать нечто большее, нежели простейшее разумение…»
И теперь, приближаясь к чужому берегу, я гадал, не совместят ли здесь для нас все те изощренные наказания, которым подвергались мы в замке и в городке?
Вот ведь судьба! Сперва нас унижали при королевском дворе, затем по приговору ее величества мы впали в еще большее ничтожество. Теперь же, в чуждой земле, где никто не знает ни нашего происхождения, ни истории каждого из нас, нас просто-напросто растопчут и смешают с грязью…
Открыв глаза, я снова увидел одинокий маленький ночник, свисающий с медного крюка на затянутом богатой тканью потолке.
Что-то определенно изменилось. Судно как будто бросило якорь. Наверху тут же воцарилось оживление — явно на ноги подняли всю команду. И чьи-то шаги приближались к нашей каюте…
Красавица открыла глаза. Она давно уже не спала и, даже не выглядывая в окно, могла точно сказать, что уже утро. Воздух в каюте был непривычно теплым.
Где-то с час назад она слышала, как Тристан с Лораном перешептываются в темноте. Поняв, что корабль встал на якорь, принцесса испытала легкий укол страха.
Некоторое время она еще нежилась в сладких чувственных грезах. Все ее тело потихоньку пробуждалось, словно спящая земля под ласковыми лучами восходящего солнца. Девушке не терпелось уже попасть на берег и как-то разузнать, что ожидает ее в этом неведомом краю и что вообще может ей тут угрожать.
Теперь, когда каюту наводнили опрятные хорошенькие грумы, стало очевидно, что они прибыли наконец в страну великого султана и что очень скоро все прояснится.
Прелестные юнцы, которым, несмотря на их рост, явно уже стукнуло четырнадцать-пятнадцать, и всегда были богато одеты, однако нынче утром они красовались в великолепно расшитых шелковых одеяниях, перетянутых в талии кушаками из дорогой полосатой ткани; их черные волосы поблескивали маслом, а невинные оливковые личики аж побагровели от непривычного волнения.
Довольно скоро все королевские пленники были разбужены, извлечены из своих клеток и по отдельности разложены на специальных столах для омовений и ухода.
Красавица всем телом потянулась на шелковой подстилке, наслаждаясь этим избавлением от тесноты клетки, в мышцах ног появилось легкое покалывание. Девушка глянула на Тристана, затем на Лорана: первый все еще тяжело переживал свою потерю, второго, как всегда, немного забавляло происходящее. Сейчас они даже не успели друг с другом попрощаться. Красавица надеялась: их все же не разлучат, и, что бы ни случилось, они встретят беды вместе. И каким-то образом в этой новой неволе им все же представятся мгновения, когда они смогут друг с другом перекинуться хоть словом.
Между тем грумы щедро намазали тело Красавицы золотистым красящим маслом, умело растирая сильными пальцами ее бедра и ягодицы. Затем, приподняв ее длинные волосы, густо опудрили их золотой пылью, после чего аккуратно перевернули девушку на спину.
Тут же чьи-то сноровистые пальцы открыли ей рот, и по зубам, натирая их до блеска, пробежалась мягкая тряпица, после чего на губы нанесли золотую помаду. Затем так же золотом накрасили брови и ресницы.
С того первого весьма памятного дня их морского пути ни ее, ни кого-то другого из пленников так основательно не украшали. И от предвкушения загадочной новизны все тело Красавицы пронизали токи знакомого возбуждения.
Словно в тумане, ей припомнился восхитительно свирепый капитан стражи из городка, затем аристократичные, утонченные, но уже почти стершиеся из памяти господа-мучители из королевского двора. И Красавице страстно захотелось снова кому-нибудь принадлежать — чтобы ее опять кто-то усмирял, подчинял своей воле, и обладая ею, и нещадно наказывая.
Это казалось самым худшим унижением — быть собственностью другого человека. Оглядываясь назад, девушка ощущала себя прекрасным цветком, едва распустившимся в полную силу, но безжалостно сорванным и смятым чужой волей. И в этих страданиях, причиненных ей по чьей-то прихоти, она понемногу раскрыла для себя собственную суть.