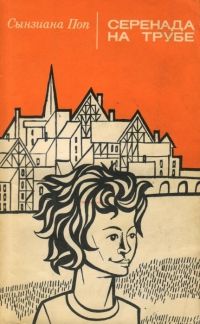— Ты там работаешь, подметаешь или что–нибудь в этом роде?
— Я сужусь, старуха, ты что, спятила? — сказал он, а потом: — Ш-ш! Обрати внимание, какая гадюка эта ее сестра. А тоже, с маникюром!
Хозяйка Пи плакала, сестра на нее кричала, и ногти у нее были наманикюрены. Она была красивая, но очень неприятная. Она ходила взад–вперед по всему фильму и целовалась с каждым встречным, ну просто со всеми она чмокалась, и тетенька из первого ряда раза два вскакивала и давала тон для новой песни, но поцелуи быстро кончались, они длились меньше, чем сцена расстегивания пуговиц, так что тетенька в конце концов отказалась от этой мысли и единственно, что она делала — кричала: «Kinder, Kinder!»[65], чтобы покрыть непристойные звуки фильма.
— Она совсем спятила, — сказал Личинка. — Ее пугают злоупотребления.
— А еще кого? — спросила я.
— Ведь я же сказал тебе, что сужусь! — закричал он. — Другую тетку. Мою Полоумную. Она не хочет меня брать.
— Брать к себе? — спросила я.
— Ясное дело! — сказал он. — Ведь не везти ж ей меня на бойню.
— А ты?
— А я, а ты, а он, а другие, — сказал он. — Да что это он не смеется?
— Старик?
— Да. Потрясно. В жизни ничего такого не видел. Ну те — протертый суп, стручки и фасоль, но он–то что? И пахнет…
— Чем пахнет?
— Не чувствуешь? Мертвечиной. Уж меня–то на этом не проведешь.
— Замолчи, — сказала я. — Хватит.
Он откинулся на спинку стула и нахлобучил кепку на глаза.
— Больше но хочешь смотреть?
— Больше не получается. Дальше идет желе. Посмотри, какие краски.
И правда. Все разжижилось до предела. Карамельно–розовый, сиреневый, фисташково–зеленый. За действием теперь уже не было нужды следить, идиллия была в полном разгаре. И когда потом все затекло бледно–синим, я поняла, что можно идти домой. И я ушла, то есть мысленно я уже вышла на улицу, в городской вечер, но ни руки, ни ноги, ни мой зад не поднялись со стула, я осталась на месте и ушла последней, последней, уже тогда, когда исчезли все, и лишь пускавший отводки пытался вытащить из кино свою разросшуюся руку. Только тут я встала и вышла, и мне совсем не хотелось жить. Но зрители еще не разошлись по домам и даже еще не смешались с толпой. Сидевших сзади можно было отличить по тому, как они тыкались вслепую, точно летучие мыши, пытаясь приспособиться к новым атмосферным условиям, и были явно деформированы — у кого длиннее рука, у кого распухли губы, у кого нога свернулась па сторону, они как–то забылись и выглядели по–дурацки, как привидения, выросшие в темноте. Их счастье, что они уходили парами, так они как–то уравновешивали друг друга, притершись уже в кинозале, короткий с длинным или наоборот, птицы с переломанными крыльями, тащившиеся по темным коридорам улиц, зажатых между холодных стен. Старик тоже ушел, он шел один в противоположном направлении, еле волоча ноги, но я видела, как мой пострел побежал за ним вслед, что–то объяснял ему быстро–быстро, и потом они оба пошли дальше, взявшись за руки, и парнишка что–то говорил с воодушевлением, строя чудовищные рожи. Еще на улице остались карапузы со своей теткой. Они выглядели сонными и немного вялыми, но немка скомандовала что–то низким голосом, и они тут же запели. Я двинулась за ними и некоторое время шла вдоль тротуара с «O, mein lieber Augustin, Au–gus–tin, Au–gus–tin»[66], но на первом же перекрестке тетенька вышла на середину улицы и остановила движение, подняв руку, прочно вонзив в мостовую растопыренные наподобие циркуля ноги и повернув голову в сторону. Все машины, даже грузовики, затормозили, не двинулась даже красная гоночная, хотя она вполне бы проехала между ее расставленными ногами. Тетенька носила юбку–штаны и могла сойти за Эйфелеву башню. Но нет, никто не поехал дальше, и она, задержавшись на мгновение перед детьми, дала тон для песни и, решительно затянув «Мы — птички», двинулась на другую сторону улицы, шествуя прямо и с достоинством, высоко подняв голову и размахивая руками над кожаной портупеей, пересекавшей ее грудь. И, только убедившись, что все благополучно добрались до тротуара, она вытащила из кармана рубахи свисток и сделала рукой знак машинам, восстановив таким образом движение. А сама направилась дальше, с «Platz, пожалуйста, Platz!»[67] Она таранила толпу собственным телом. И потом дала тон для третьей песни, маршируя впереди, но я не слышала, что такое они пели, они довольно далеко от меня ушли, и я лишь видела ее стальной остов, которому толпа была но пояс, он плыл вдалеке, словно мачта. И я представила себе затем «Auf Wiedersehen, Василикэ, Auf Wiedersehen[68], Матей», «дзынь» звонка у ворот, подопечные разведены по домам, мертвые от усталости, голодные, с ранцами, оказавшимися уже на животе, с развязанными шнурками ботинок, со спутанными волосами. И joj[69], Рожика и Илонка уже на улице, а дети путаются в их юбках, но, joj istenem[70], не видать ни одного солдата, и ребенка хватают за руку и втаскивают во двор, Auf Morgen[71], Ионопоткиванок[72], и тетенька наконец–то осталась одна и отправилась домой играть сонатину Бетховена, в то время как Василикэ и Матей обнаруживают свои ohtele[73] знания в области deutsch[74]:
Ringel, Ringel, Reihe,
Wir singen alle zu drei,
Wir singen alle holder Busch,
Und machen alle husch, husch, husch.[75].
Мне следовало бы кричать, что я люблю его до безумия. Пожать руку Личинке — Личности. Он побежал за стариком, и это превзошло все мои ожидания; все, что я сама могла бы сделать для одинокого господина, сидевшего в центре зала, не идет ни в какое сравнение. И все широковещательные жесты, похожие на банты из тафты. Что он такое ему сказал, почему они потом ушли, взявшись за руки? Я приостановилась и вспомнила, как он шагал в штанах с перекрещенными бретелями. Ах, я любила его до безумия, и только то самое диалектическое противоречие, о котором я уже говорила, удержало меня от того, чтобы кинуться ему вслед. Однако я мысленно поздравила его, больше того — он заставил меня почувствовать вместо жалости блаженную радость, от которой кружилась голова, которая стекала по мне, проходя через воронку с узким горлышком. Он был такой, такой несчастный, бедный мой Личинка, и вот теперь он покровительствует человеку, явно пенсионеру. Топает мелкими шагами по тротуару в своих штанах с бретельками. Ну да, были Белокурый Ули и Шеф, а теперь был и Личинка. Я стала насвистывать и пошла, подпрыгивая по краю тротуара, через осенний вечер, в сторону ветра. Было не холодно и не жарко, до наступления прохлады стены кирпичных домов нагревались солнечным топливом.
Улица, по которой я шла, была пустынна, хотя в нее вливались десятки переулков. Но были они так узки и темны, что ни одна собака не решалась пробежать по этим каналам со сгущенным воздухом. А мне все–таки хотелось бы как–нибудь прыгнуть с дома на дом и посмотреть, разобью ли я голову, падая в пространство, похожее на сверкающие куски хрусталя. Но достаточно одной сомнамбулы на семейство — у нас был дедушка фон Лауф, по ночам он ходил по заборам с повязкой для усов и с нитяной сеткой на голове, и этой чудачке Манане никогда не пришло в голову прикрикнуть на него и так отправить прямиком в ад. Она шла за ним, как тень, и молила сойти вниз. А кому и когда удавалось объясниться с этим кретином, не накричав на него и не поддав ему разочка два кулаком? Но Манана была такая мягкая, из нее, как из пластилина, можно было слепить сто девяносто шесть разных фигур.
Перед Спортивной школой я на некоторое время остановилась, потому что там были городской ипподром и манежи и чувствовался еще запах лошадей и взрыхленной земли. И пахло навозом. Мне нравилось вдыхать этот острый запах, который всегда напоминал мне о наших горных лошадках… Маленьких лошадках, но грузы они могут перевозить и по вертикальной стене.
Сразу за школой, налево, начиналась аллея, ведущая к парку и к подножию гор. Там не было фонарей, и именно оттуда изливалась на город тьма. Какое–то мгновение я собиралась пойти навстречу этой волне, двинуться наперекор ей, принять ванну из мрака в начале сентября, но на противоположной стороне огни города сверкали так заманчиво — они вспыхивали в воздухе, точно фосфоресцирующие парашюты, — что я повернула вправо. И как раз навстречу мне шел — уж не знаю откуда — духовой оркестр купеческой гильдии, он шел посреди дороги, оркестранты были хорошо построены — трубы, горны, тромбоны и большой барабан. Я остановилась и, взяв под козырек, приветствовала гремящий марш, под который так хорошо идти в ногу, я долго приветствовала его, маршируя на месте, а музыканты вдохновенно дефилировали передо мной, пышущие жизнью, в клетчатой одежде, застегнутой на костяные пуговицы.
А потом… А потом… Что было потом?
В спустившемся на землю всесильном мраке ночи портал Черной церкви сверкал, как подкова, усыпанная огнями. Один к одному бриллианты с кулак величиной, темнота была разрезана с большой точностью лезвиями серебряных сабель. А там, где была приоткрыта дверь, полоска света, вылетавшая на улицу, проявляла до половины стволы деревьев и спины лошадей, запряженных в пролетки. Я подошла, но в церкви было столько народу, что вначале я ничего не увидела. Потом, проникнув внутрь, я поняла, что это была конфирмация четырнадцатилетних. Все они сидели на скамейках, мальчики слева, девочки справа, положив руки на пюпитры. На мальчиках были специальные одежды, короткие кожаные штаны и бархатные галстуки, расшитые у шеи. Девочки были как ангелы: белые платья, точно пена, а на голове — венки из цветов. Оттуда, где я стояла, видны были только их макушки, ряды голов, все без исключения белокурые, но я эту историю знала давно; целые месяцы под покровительством сасского пастора в школе учили наизусть Евангелие, чтобы голоса детей, праздновавших четырнадцатые именины и четырнадцатый день рождения, звучали чисто и без запинки на конфирмирунг, под высоким сводом раннеготической церкви.