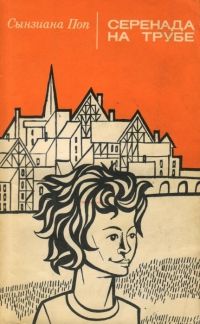Большинство присутствовавших в церкви были ближайшими родственниками — папы и мамы, но была тут и тетя Ульрике, двоюродная сестра внучки прабабушки Гудрун, жена дядюшки Хеби, сына Гертруды фон Штайн — не путать с Гертрудой Либхарт, более дальней родственницей, которая, однако, пришла со своими двумя детьми — Микели и Клаусом. Нужно было видеть это взволнованное собрание, когда один из учеников встал и в каменную тишину начали падать вопросы пастора. А потом зазвенел, как родник, ответ. И только очень–очень редко в этом царстве камня грохотал голос какого–нибудь до времени развившегося ученика с усиками или голос причащающегося второгодника. Потому что и среди них были такие, которые ни за что на свете не могли запомнить Библию наизусть, хотя даже прислуживали в церкви, стирали пыль, подметали алтарь и по воскресеньям носили музыкальные шкатулки, в которые собирались деньги, поданные прихожанами. Но и они под конец получали от пастора Евангелие, маленькую книжечку, переплетенную в кожу с серебряным тиснением. Однако очень важны были подарки, которые получали дети, хотя, конечно, существует довольно большая разница между ручными часами, подаренными сыну господина Вайса, и кислыми конфетами, полученными Сентой Дюк. Но у Сенты Дюк не было отца, и так далее, и так до конца ее дней. А она очень хорошо отвечала на все вопросы по Новому завету, так хорошо, что никому не удалось ее превзойти на других конфирмациях, на которых я бывала, И если все–таки существует бог, о котором мы всегда говорим, что он так справедлив, тогда почему же случаются истории вроде той, с золотыми часами и конфетами за шесть лей? Где в этом деле справедливость? Так что мне нравятся конфирмации только из–за белых шелковых платьев и цветов в волосах. Потом все бывает ужасно, немецкий бог страшно грешит против оценки ценностей. В этом отношении бог румынский ведет себя много лучше. Так мне кажется. Правда, наши исповеди бывают раза три в год, а за ними причастие, и нет у нас спектаклей в национальных костюмах и со звоном колокольчиков. Но когда мы стояли там на коленях, под поповской епитрахилью, дрожа перед признаниями, демократия выявлялась ясно и была в самом расцвете сил. Я всегда накануне вечером думала, что я скажу, как мне так ответить на самые важные вопросы, чтобы не вышла шитая белыми нитками ложь, но и вместе с тем чтобы не скрыть, как я время от времени зарюсь на добро ближнего. Потому что я все же стянула несколько сигарет из Каменного дома, ну, было и кое–что другое в том же роде. И если подумать об истории с письмами Мананы, то видно, что я обманывала, но такого рода обман, мне кажется, необходим и, думаю, наш бог мне его простит. Наш доступный бог. Он не обращает внимания на мелкие свинства. Этот бог, нарисованный на стенах, он более человечный бог, не чета отцу Иисуса Христа у немцев. Тот настоящий солдат. Я поняла, что эти вещи обстоят именно так, а не иначе в школе, по тому, как мы все готовились. Ученики–немцы обсасывали Евангелие, долбили его для конфирмации. Мы, православные румыны, чувствовали себя очень хорошо. Не нужно было делать никаких усилий. Говорилось, будто утром надо поститься, но могу поклясться, что мы все выпивали кофе с молоком, прежде чем, встав на колени, спрятаться под епитрахиль батюшки. А какая жизнь била там, в темноте и в тесноте под животом, выпяченным вперед, словно бочка!
— Вы лгали?
— Да–а–а! — блеяли мы хором, точно тонкорунная овца.
— Воровали?
— Не–е–ет! — выли мы и соответственно мотали головами.
Но нам и не приходило в голову вовремя остановиться, мы тянули это «е», пока глаза на лоб не вылезут, а потом прямо пальцами мы вправляли их назад. Только у Доди Чукэ был стеклянный глаз, и, когда все это происходило, его глаз обязательно выскакивал, падал на цемент и насколько раз подпрыгивал, точно резиновый мячик, потому что он был из небьющегося стекла, но искать–то мы его потом искали, искали все, ползая на брюхе, когда исповедь кончалась. А еще до этого мы отвечали на один или два вопроса, потом смирно стояли в очереди к причастию, и тут мы все были равны перед лицом румынского бога. Кровь и тело господне, ложечка вина и четвертинка просфоры, пахнущей церковью и свечами. Потом мы искали глаз Доди и играли им в шарики на улице. И Доди никогда не сердился, хотя со временем стекло малость растрескалось и отдавало многими цветами. Но это совсем другая история, я хотела только сказать, что у нас равенство было полное, а немецкий обычай с подарками всегда меня огорчал.
Я сидела, опершись на мраморную колонну, и ни одна частица моего тепла не перешла к камню, но, наоборот, заледенели мои лопатки, холод постепенно пронизывал меня. Однако я не уходила, было интересно посмотреть на этих людей в праздничных одеждах, на детей, стоявших лицом ко мне, на родителей, расположившихся вдоль стен. Я просто смотрела на них, больше ничего. Я не могла уже слушать одни и те же фразы, которые и я когда–то учила наизусть. Теперь они для меня не имели смысла, несмотря на то что Библия — это детективный роман, у нее своя тема и интрига и все такое прочее, и есть там даже про запуск космонавтов. Однако между чтением для удовольствия и необходимостью читать существует дистанция огромного размера, хотя книга не меняется и единственная разница заключается в том, что в одном случае тебя заставляет кто–то, а в другом желание исходит от тебя. А для меня очень важно в жизни, что мне самой хочется делать. И сидя там, у каменного столба, я не могла слышать слова, я могла лишь очень внимательно следить за родителями. Их лица выражали ожидание, волнение, радость и — ничего. Абсолютно ничего, пока отвечал другой. Другой ребенок. Это был свирепый эгоизм. Он охватывал всю церковь клещами холода. Он благоденствовал там, в господнем доме, ничуть не стыдясь, при фальшивых улыбках, вынутых из кармана. Несмотря на всеобщее хорошее настроение, эти люди были так одиноки, так одиноки и разобщены, что мне стало страшно. Казалось, они внимательно слушали то, что говорилось, но я могу поклясться, что каждый думал о своем, между ними стояли мысли и слова, слова и происшествия, и понадобилась бы смерть, чтобы привести их всех к общему знаменателю. Так записано в священном писании. Вот почему, когда Манана умерла, исчезли загоны из прутьев, в которых мы блуждали, подобно овцам. Теперь она принадлежала мне, мне одной. Не могло быть ни разлуки, ни конца.
Я перекрестилась и вышла, с опаской пробираясь между каменными семьями, сидевшими на скамьях. Пускай их поглотит собор, я стала бы приносить им каждую весну и осень с гор листья.
И подарила бы им воспоминание. Но проходить среди них как по ледяной пустыне, ударяться телом об их каменные тела, сталкиваться глазами с их глазами — металлическими шариками, с их взглядом, в который нельзя погрузиться, как погружаются люди при встрече: синий — в черный, и зеленый, и коричневый, — или по–другому, это ведь как окна, распахнутые на восток, туда, где восходит душа; но проходить между ними, этим фальшивым собранием големов, бессмысленным собранием, потому что нельзя собрать воедино тени, нельзя собрать вместе гвоздь и сундук, нельзя собрать воедино никчемности, эти коконы, где душа — мертвая бабочка, — проходить между ними было слишком тяжко, и я кинулась на улицу, на шею первому попавшемуся коню. Одному из коней, впряженных в пролетки. Я смешала волосы с его гривой, и конь согрел меня теплым дыханием, одарив пронзительным звериным запахом.
Я продолжала стоять, зарывшись лицом в лошадиную гриву. Мне было хорошо. Хорошо, как в семье, где кто–то поет. Я уцепилась одной рукой за уздечку, а другой гладила лошадиный круп; в свете, падавшем от портала, он маслянисто поблескивал. Конь был черный, без звезды во лбу, просто черный. Одной рукой я держалась за уздечку, другой гладила его, — и маслянистая краска отпечаталась на моих пальцах, я чувствовала ее на ладони. А потом я нащупала застежку упряжи, прикосновение к металлу на секунду заставило меня содрогнуться, и только тут мне пришла в голову мысль — одна, потом другие, мне вонзил их все в череп метатель ножей. Когда я вытащила первую, по лезвию текла струйка крови, на всех ножах была кровь, и тогда я взялась за упряжь и стала ее расстегивать. И когда я покончила с одной стороной, то пролезла под лошадиным брюхом на другую, и все это заняло одну минуту.
— Ты воруешь лошадь у меня из–под носа, — сказал кучер, вдруг появляясь на козлах, и в руках у него была трубка.
— Затянись посильнее разочка два, хочется увидеть твои глаза, — сказала я, — нельзя же говорить ни с кем.
Кучер затянулся, глаза у него были голубые.
— Ты видишь ими ночью? — спросила я.
— Вижу. Я вижу, как ты воруешь у меня коня, — сказал он. Ты воруешь его насовсем?
— Я не ворую, я никогда не воровала. Я просто возьму его, только и всего.