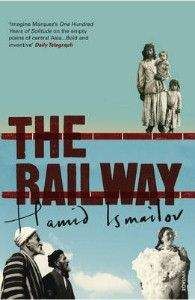Сарт оказался в одном сартом, он был хитер, а потому к вечеру переправил Куккуза людям Мориса Тореза. Тот из каких-то идеологических разногласий, тропами Форэт Нуара переправил Муллу Ульмаса сначала в Швейцарию, а потом Альпами в Италию. Там Ульмас дважды ел спагетти по-болонски с товарищем Пальмиро Тольятти и, запивая всякую морскую вонь отвратительным итальянским вином, отдающим здешней рыбой, он однажды опять опрокинул из себя ту самую сокровенную фразу. Его тут же переправили в Палермо.
Среди взрывов, разборок и разделов на утлой шлюпке он бежал морем в Грецию с мальчишкой-оторвой по имени Тото, мать которого Куккуз любил так, как не любил ее ни один итальянец. Она, не зная национальности Муллы, шептала ему в минуты любовных истязаний на плохом английском, оставшемся ей от американцев: «Фак ми! Фак ми!» — и все более распаляясь, ёрзала как угорь между слов: «Спэйн ми! Грек ми! Фрэнч ми! Турк ми!» — и уже в минуту безумного оргазма вопила по кошачьи эту самую непонятную национальность куккуза: «Сарт ми! Сарт ми!» — от которой Мулла испытывал свой высший национал-патриотический восторг!
В Греции, на берегу моря, набив ему рот камнями, его учили греческой декламации, в Турции, где язык оказался почти своим, основная нагрузка пришлась на ноги: в танцах кружащихся дервишей ордена Мевлеви из Муллы в момент транса выбрасывало ту самую богопротивную фразу, из-за которой его переправили через Тракию в Боснию, а оттуда и в Сербию, к самому Иосипу Броз Тито. Там он и взял несколько уроков сербского и хорватского от самого вождя южных славян.
Но однажды, когда за сливянкой, он безудержно выпалил ту самую фразу, увы, с ним рядом не нашлось того самого мудрого Пинхаса Шаломая, который сумел бы объяснить этому простодушному узбеку, напичканному языками, диалектами, говорами, что фраза эта пришлась на самое время натяжения советско-югославских отношений. Тито ему не простил. Через восемь стран-посредниц, языки которых поочередно освоил ничего не подозревающий Мулла Ульмас, он таки выдал его Сталину.
Как предателя Родины, Муллу Ульмаса-куккуза отправили по этапам. Четыре года нечеловеческих сибирских дорог и лагерей отложились в судьбе и жизни неумирающего Ульмаса хакасским, бурятским, эвенкским, нивхским, эскимосским и еще одним языком, названия которого никто не знал…
Он перевидал за свою мытарскую жизнь столько стран и мест, что когда в хрущевскую оттепель его наряду со всеми политическими, реабилитировали и спросили, откуда он родом, дабы отослать эшелоном обратно, Мулла Ульмас-куккуз забыл название своего родного Гиласа. Три ночи и два дня вспоминал он на сверхсрочных лагерных нарах название Гиласа и не вспомнил. Но вспомнил он почему-то Кок-терек с его базаром, где его брат Кучкар-чека продавал по воскресеньям баранов, напасенных Ульмасом, а потом… а потом его жена — Оппок-ойим работала там базаркомом!
Его отправили эшелоном в Кок-терек. Но по ошибке не в тот, родной, в двух километрах от Гиласа, а в казахстанский, где у учителя местной вечерней школы по фамилии Солженицын, который тоже оказался лагерником, Мулла брал уроки математики по-немецки. Говорить по-русски и учить Ульмаса-куккуза русскому языку с его расширительными возможностями учитель по фамилии Солженицын отказался наотрез, а отказался он после того, как, напившись по случаю приезда, казахской бузы, Мулла Ульмас-куккуз говорил только той своей войсковой фразой, которая хранила его столько лет крепче оговора или ворожбы!
Пригодилась таки эта фраза Ульмасу в жизни! Пионеры Гиласа в течение 8 лет беспрерывной переписки со всей страной отыскали в казахском Кок-тереке самого первого фронтовика Гиласа, которым оказался Мулла Ульмас-куккуз. Да, в то время было много фронтовиков у Гиласа, куда более достойных бывшего овцепаса Ульмаса-куккуза, но на поверку оказалось, что ни один из них не родился в самом Гиласе. Одноглазый Фатхулла был родом из полуузбекского-полутаджикского Чуста, полковник в отставке Турдыбай-аскер, имевший на груди ордена всех тех стран, языки которых сдались Мулле Ульмасу, тот вообще в графе «место рождения» имел прочерк, потому что имя, фамилию и национальность получил в возрасте 11 лет в детдоме.
Словом, учитель математики прощался с Муллой чуть не плача, ведь после великосербского, Ульмас стал было обучать математика основам албанского, узбекского и идиша, но, как видать, не судьба!
Хочешь-не хочешь, стал Мулла Ульмас-куккуз, вооруженный своей красноармейской фразой, теперь бьющей точно в цель, ветераном № 1 Гиласа и прилагающих к нему колхозов. Уж его жена Оппок-ойим, прибравшая к тому времени Гилас к рукам, постаралась, чтобы ее бедному мужу были возданы подобающие ей почести! И вот однажды, на республиканском слете ветеранов войны и труда во время перерыва, в уборной он столкнулся, что называется, писька к письке с кем бы вы думали? — с самим Пинхасом Шаломаем, который, как оказалось, из Панжхоса Салома превратился теперь в Петра Михайловича Шолох-Маева, защитив диссертацию по славной роли узбекских разведчиков в глубоком тылу у немецко-фашистского врага и сняв по этой диссертации художественный фильм «Подвиг Фархада», объявленный для демонстрации сегодня после слета. Теперь он заведовал кафедрой русско-узбекского и узбекско-русского перевода в институте, где трех-четырех русских докторов, не знающих ни бельмеса по-узбекски, держали для редактирования диссертаций, отправляемых в московский ВАК, а 37 узбекских профессоров, докторов и кандидатов, писавших время от времени эти диссертации, увы, путались в падежах и склонениях русской грамматики. Вот и служил им мостом дружбы Шолох-Маев, знавший в совершенстве оба языка, не говоря о куче других. Ведь и там, в уборной, удивляя прямых ветеранов, перестающих писать, эти двое попеременно разговаривали то по-судетски, то по-эльзасски, то по-каталонски. Но когда Мулла Ульмас-куккуз, застегивая ширинку на нововведенные «молнии» вместо железных пуговиц, прищемил по непривычке себе свое мужское место и невольно выматерился на языке рыбака, которому в то же место вцепился зубастый морж у берегов Моря Братьев Лаптевых, то этой матерщины не понял даже сам доктор наук и заслуженный деятель Пинхас.
Именно после этой встречи в уборной республиканского слета ветеранов, Петр Михайлович Шолох-Маев пробил у себя на кафедре полставки для Ульмаса-куккуза с должностью «носителя вымирающих языков», организовав при нем всесоюзный центр по изучению и реставрации языков Крайнего Севера и Сибири.
Ко времени дряхлеющего со своим развитым социализмом Брежнева, когда славный ветеран и носитель Мулла Ульмас-куккуз почти ежедневно стал вспоминать свою неистребимую фразу, евреи потянулись из Советского Союза. Записался в очередь и Пинхас Шаломай. Но ему почему-то отказали: то ли по незаменимости, то ли обнаружились какие-то обстоятельства в его военном прошлом, и тогда Пинхас по старой дружбе уговорил Муллу Ульмаса-куккуза написать письмо тому самому учителю Солженицыну, который теперь стал большим человеком.
— На каком языке я буду писать? Русского я не знаю. Узбекского он не доучил. А потом — я и не умею писать! — воскликнул он в сердцах. Тогда Пинхас написал что-то сам, а Ульмас в нем по-прежнему лишь черкнул один круглешок и одну палку по-арабски.
Что там произошло — известно лишь одному Богу, да еще может быть Пинхасу с Солженицыным, но через две недели вызвали Ульмаса-куккуза в город, будто бы для вручения очередной фронтовой награды вкупе с Грамотой от Корякского нацкома партии, а на самом деле в 24 часа выдворили его вместе с Пинхасом Шаломаем за пределы СССР!
Так на старости лет Мулла Ульмас-куккуз, родной брат покойного Кучкара-чека и родной зять покойного большевика Октама-уруса, оказался на Брайтон-Бич, и не найдя там никаких новых для себя языков — что поделать — принялся таки за изучение одесского говога гусского языка, матеря по пьянке всех напропалую той самой неистребимо-могучей русской фразой и понимая теперь весь ее неотвратимый смысл…
Два слова попутно о жене Муллы Ульмаса-куккуза, красноглазой полуальбиноске Оппок, родной сестре большевика Октама-уруса. А история ее былой жизни такова. В начале двадцатых годов, когда Октам-урус вдруг пошел в гору большевизма, к ним в кишлак зачастили сваты. Оппок — совсем еще девчонка, выглядывала из щелочки ичкари на комсомольских вожаков, домогающихся ее беспартийной руки, да партийного покровительства Октама, и находила одного кривым, другого — худым, третьего — лысым… Тогда-то ее бабушка и сказала фразу, которую Оппок запомнила на всю свою жизнь:
— Ху-ув бола, сан узийни кип-ялангоч килиб бир тош ойнага соб курчи![18]
Словом, вскоре вожаки отвадились наведываться к ним, переженясь кто на татарках, кто на казашках, а самые большие карьеристы — и на русских. Потом, по настоянию своего брата полуальбиноска Оппок сбросила принародно паранджу, и тогда даже вожаки этого движения перепугались и перекрестились, представив себе, что они могли заполучить себе в жены. После этого уже никто к ней не забредал в сваты…