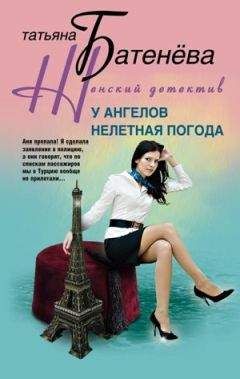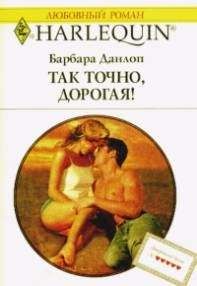и лист назначений, поморщился и размял ладонью ногу. Она отекла, но кое-как двигалась. Кто его раздевал — врач, Маргарета?.. не важно; вся одежда осталась лежать в койке у него в ногах, и Макс, зябко поёжившись, намотал портянки и натянул на себя сыроватый комбез.
А потом, кое-как проковыляв через станцию, вышел на солнечный двор.
Было около десяти или одиннадцати утра, — солнце проползло чуть больше трети неба и недружелюбно скалилось из-за кучерявого клёна. Справа громоздился навес с насестом для виверна, там с присвистом похрапывал зверь. У дверей была сложена небольшая поленница. Вытоптанный двор казался пустым и неживым, деревья подступали совсем близко к станции, а Маргарета сидела на обрубке ствола в тени навеса и курила.
Конечно, она видела, что Макс вышел, — но не сказала ни слова. Она молчала, пока он хромал и устраивался в траве неподалёку, где можно было облокотиться на столб.
— Рассказывай, — велел он.
— Вам прописали постельный режим, — безразлично сказала Маргарета, глядя куда-то мимо.
— Что ты натворила?
Если бы она стала возражать, он бы поверил. Что его она разлюбила, зато вдруг воспылала страстью к дурацкому глухому лесу и метеосводкам. Максу очень хотелось в это поверить; поверить в это, а не в то, что когда-то любимой женщине есть что скрывать, есть от кого прятаться и есть за что чувствовать себя виноватой.
Маргарета молчала.
— Я помогу, — с тяжёлым сердцем сказал Макс. — Ты расскажешь мне, как всё было, я поговорю с людьми. Если нет решения трибунала, всё можно замять. Если есть, нужно будет подумать.
Она глянула на него с неожиданной злобой и так впечатала окурок в землю, что он размозжился в труху.
— Это всё, что может сказать великий народный герой?
— Я помогу, — повторил Макс. — В любом случае.
Я помогу, потому что война закончилась, хотел сказать он. Война закончилась, и всё, что ты могла сделать, в любом случае потеряло всякое значение. Я знаю, что у нас сейчас скоры и развешивать медали, и судить, трубя об этом во всех газетах, и знаю про многих людей, уехавших в далёкие деревни, чтобы никто не спросил с них за невыполненный приказ или оставленный пост. Вряд ли твой грех так уж велик, не правда ли? Такое время сейчас, что нужны правые и виноватые, но в честь всего, что у нас было и что могло бы быть…
Давай похороним всё. Ты же это и пытаешься сделать.
— Пошёл ты, — тускло сказала Маргарета и закурила следующую.
— Маргарета, не дури. Я серьёзно предлагаю, и…
— Пошёл ты!
Она вскочила и будто собиралась пнуть полено, на котором сидела, но замерла и остановилась. Спина ссутулилась, правое плечо поднялось выше левого. Вспышка гнева погасла, так и не породив пожара.
— Выздоравливайте, — хрипло сказала Маргарета.
И, круто развернувшись, двинулась к лесу.
Вряд ли она понимала, куда именно идёт. Зато было совершенно ясно — откуда.
— Эй! Стой. Одолжи зажигалку.
Она швырнула свою не глядя и промахнулась: металлический корпус блеснул где-то в траве.
— Вернусь к виверне, — громко сообщил Макс, выискивая зажигалку и убирая её в карман. Маргарета всё-таки остановилась у границы деревьев. — Если не затруднит, сбрось мне чего-нибудь пожрать.
— Вам не рекомендовали…
Он усмехнулся и ничего не ответил. Ему много чего не рекомендовали; жить вообще — вредное занятие, от этого умирают.
Нога ныла, но Макс, помня о гордом звании героя и всём прочем, старался хромать поменьше. Ничего, расходится, а потом устроит себе роскошную кровать из седла и проведёт в полной тишине тот месяц или чуть больше, что у виверны будет заживать крыло. В сумке есть и фляга, и котелок, и много других полезных вещей, а если Маргарета заупрямится и зажмотит даже консервы, можно будет поставить силок на птичку и нарвать да вон хоть бы и ревня. И ни устава, ни начальства, ни ножа в сердце от бывшей любви, ни-че-го.
— Но…
Кажется, она говорила что-то там ещё после этого «но». Макс привычно не слушал: после «но» никто и никогда не говорил ничего полезного.
Наконец, она сдалась. Помолчала, наблюдая, как Макс обошёл станцию и кое-как перебрался через молодой подлесок, безжалостно раздавленный вчерашним драконом. Основной лес здесь был довольно чистый, на карте его разметили бы белым, может быть в редкую зелёную штриховку.
— На два часа, — крикнула ему вслед Маргарета. — Азимутом вон ту серую скалу. Тут километров шесть, не больше.
Макс кивнул, не оборачиваясь. Он и отсюда прекрасно чувствовал, где его виверна, — как и то, что сон у неё лишь слегка тревожный. Если разорванное крыло и воспалилось, зверя это пока не беспокоило.
— Там ручей есть, — растерянно сказала девушка. — Чуть севернее.
Он снова кивнул и зашёл под деревья.
Погода была нелётная.
Шквалистым ветром пахло с самого утра, — и пусть наука так и не смогла научиться его предсказывать, для Маргареты он почему-то никогда не был удивлением. Может быть, это потому, что Маргарета никогда не была одной-единственной Маргаретой. Их всегда было много, этих Маргарет, и утренняя знала всё то, что знала тень вечерней, и вместе они составляли жёсткий, известный от начала до конца маршрут, в котором не было места никаким удивлениям.
Макс ушёл до полудня, а уже в двенадцатичасовой сводке Маргарета подала много плохих цифр. Она не очень-то понимала в метеорологии, но за без малого год на станции привыкла к тому, как центр велит перекладывать коридоры.
С самого утра пахло ветром, по которому не полетит почтовый дракон. В половину пятого Маргарета будет стоять у окна, смотреть в небо, но оно будет немым и пустым.
Иногда ей хотелось солгать в сводке, чтобы драконы всё-таки летали.
Но, конечно, она никогда этого не делала.
К двум часам зарядил дождь, — унылый, крупными редкими каплями, из тяжёлой низко висящей тучи; такой может идти и сутки, пока где-то над ним тревожится буйное небо. Старый виверн взлетал неохотно, и Маргарете пришлось постараться, чтобы заставить его нырнуть в тучу. Незаплетённые волосы вымокли насквозь, а шарф был дурной заменой кожаному