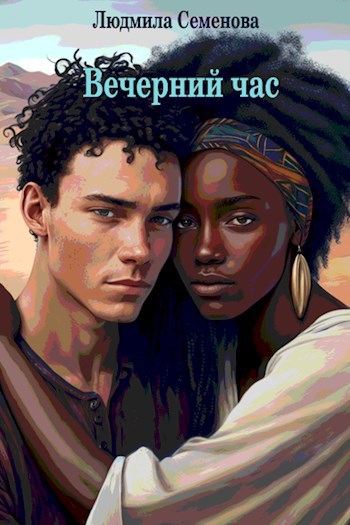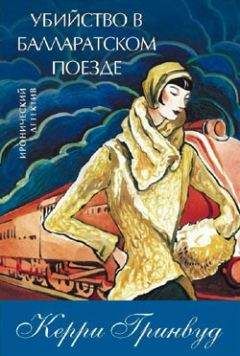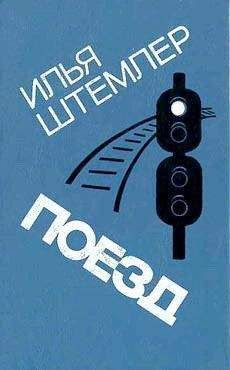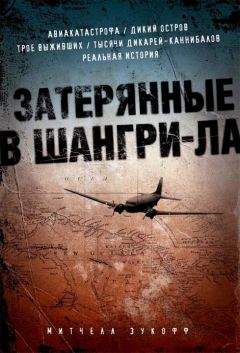на Пашу.
— Вот тебе сразу два голубых шарика, — примирительно сказал Хиллар, поставив перед сестрой вазочку с джелато. Сам он, как и Паша, взял крем-брюле с соленой карамелью, а Тэя выбрала одну порцию бананового мороженого и еще одну — фисташкового. Мороженое показалось Паше удивительно вкусным и нежным.
Потом ребята запили его горячим кофе, и тут он вспомнил о том, что встревожило его в речах Хиллара о замужестве сестры. Паша снова отвел его в сторону и тихо спросил:
— А все-таки про какие проблемы ты говорил? Это касается приданого или еще чего-нибудь в этом роде?
— Слушай, тебе-то это зачем, — вздохнул парень, — помочь ты все равно не можешь, а если просто интересно, то лучше не влезай, не порть себе нервы.
— Ну а вдруг я смогу помочь? Слушай, я тебе хочу кое-что рассказать, — сказал Паша и вздохнул, будто перед тяжелой нагрузкой. — Мой отец служил здесь медиком и занимался просветительской работой, он старался искоренить не только антисанитарию, но и местные дикие обычаи, которые вредили здоровью. Это многим не нравилось, и в конце концов его просто затравили, так что он сдался и опустил руки. Я его не осуждаю, потому что еще не был в его шкуре, я только надеюсь, что у меня получится не сдаться.
Хиллар недоверчиво посмотрел на Пашу и спросил:
— Ты хочешь сказать, что твой отец миссионер?
— Можно и так, хотя он всегда называл себя простым медбратом. И он был родом из самой простой, крестьянской эфиопской семьи, только его родители чудом сумели выбраться из нищеты и получить образование. Он много мне об этом рассказывал, так что я понимаю гораздо больше, чем ты думаешь.
— Так выходит, ты наполовину наш?!
— Хил, я свой собственный, — улыбнулся Паша. — Но конечно, Эфиопия мне в каком-то смысле родная, ведь здесь отец прожил свои лучшие годы и мечтал показать ее мне.
— Он умер?
— Я не знаю, но по крайней мере для меня он жив, — твердо ответил Паша. — И я уверен, что он бы не хотел, чтобы я равнодушно смотрел на чужие несчастья.
— Круто, — вздохнул Хиллар. — Славный ты парень, Пол! Даже жаль, что ты не сможешь жениться на Амади. Я бы хотел, чтобы ты был моим братом.
— Жениться не смогу, но дружить-то нам всем никто не запретит. А породниться мы еще можем: приезжай учиться к нам в Россию и я познакомлю тебя с моей сестрой, — тепло сказал Паша и хлопнул его по плечу. — А теперь все-таки расскажи мне, что не так с замужеством Амади.
Хиллар снова нахмурился и неохотно сказал:
— Видишь ли, ее просватают в следующем году, когда ей исполнится пятнадцать, и мать считает, что к этому времени Амади должна быть чистой...
— В смысле девственницей? — уточнил Паша, понизив голос. — А что, с этим могут быть проблемы?
— Да ты что! Конечно, она еще даже ни с кем не целовалась, речь совсем о другом. Видишь ли, наши родители родом из разных племен, и у отца давно не обрезают девчонок, а вот у матери это до сих пор приветствуется, и она считает, что обязана сделать это и с Амади...
— Что?! — ужаснулся Паша. — Эта мерзость все еще практикуется?
Про женское обрезание парень уже давно слышал от матери, а та узнала от отца и его жены. Супруги в пору расцвета миссионерской деятельности много сил отдали борьбе с этим ритуалом, погубившим или сделавшим инвалидами множество девочек-подростков или совсем маленьких. Отец с горестным цинизмом называл его «подарочной упаковкой» — в деревне, где обитали его родственники, промежность просто зашивали, чтобы в первую ночь новобрачный мог рассечь ее любым попавшимся лезвием.
И теперь выяснилось, что такая же экзекуция грозит Амади, трогательной девчонке с испуганными глазами, к которой Паша уже успел по-дружески привязаться.
— Да, — мрачно сказал Хиллар. — Но отец заявил, что не желает ее калечить, а мать уперлась: так надо и все! Мол, она заботится только о ее счастье и сделает так, что и больно не будет, а Амади зато станет такой же хорошей женой.
— То есть отец против, а мать за? — невольно усмехнулся Паша. — Слушай, я бы еще худо-бедно понял, если бы наоборот, но так...
— А что, матери это сделали когда она была еще меньше Амади. Уцелела — и ладно, считай уже счастлива. Вот она и думает, что иначе Амади не станет настоящей женщиной.
— Блин, — мрачно выдохнул Паша. — Вы же в бога вроде как верите? И церковь в городе есть, твои родители наверняка туда ходят! С какой стати они могут менять то, что он определил, и отнимать то, что он дал? Где же логика?
Хиллар только горестно развел руками. Теперь Паша понимал, почему этот парень рассуждает совсем не по своим годам: он с детства жил между ростками культуры, которые отчаянно пытались пробиться и расцвести, и непробиваемым слоем глухого невежества, которое разъедало даже любовь и семейные узы. Амади была еще совсем юной и ее ничто не смущало в родной среде, другие дети — вообще малыши, а Хиллар уже понимал все. В то же время его воспитали послушным сыном, верным укладу и традициям, и пока он не видел никакой альтернативы, хотя и сомневался в них. Неудивительно, что он и Амади прикипели к русскому парню, который казался им пришельцем из какой-то волшебной сказки.
Наверное, и отец Паши в этом возрасте испытал то же самое. Он так хотел искоренить зверские традиции и насилие над женщинами и детьми, а оказалось, что с его детства мало что изменилось. Паша вдруг почувствовал себя обманутым, но не кем-то, а собственными детскими грезами. Золотистый цвет эфиопского неба теперь казался ему зловещим, в бравурной музыке слышался сдавленный крик отчаяния, от мороженого остался горький привкус, а широко улыбающиеся лица людей, веселящихся на празднике, выглядели как ритуальные маски.
— В общем так, Пол: возможно, мать уже скоро созовет в дом знахарок и кликуш в наше отсутствие, скажет Амади, что это большой праздник, и если, мол, она будет хорошо себя вести, то получит подарок, — наконец промолвил Хиллар. — А нам потом объяснит, что Амади болеет и ее пока не надо беспокоить. Если это случится до твоего отъезда, просто не пугайся и